

Был(а) в сети 2 месяца назад
«не знаю. переспать с тем, кто ей очень дорог?»
они никогда не были полноценными, пока не встретились.
«хочу тебя поцеловать. сейчас.»
где мои сигареты?
мир соткан из повторяющихся явлений.
«тебе, вероятно, было дурно всю жизнь. — мам, — произнесено голосом уставшим и отстраненным. ты до сих пор бережно собираешь старые письма о любви в черную коробку из-под обуви французской марки — и читаешь глубокими ночами, бесконечно утопая в ненадежных, тоскливых и блаженных воспоминаниях? помнишь ли ты, как хваталась за меня слабыми руками и тихо повторяла «тео, мне так жаль», и тонул шепот в кромешной тьме. скорбь пряталась в складках изысканного платья от знаменитого кутюрье, которое ты безжалостно сминала бледными пальцами, бросая короткий взгляд в сторону отца. ожидающий, полный надежды на смущающий комплимент. взгляни на меня, арчибальд. скажи, тебе нравится? скорбь заполнила собой весь особняк, въелась в плинтуса, стены и ставни окон: проведи ладонью по деревянной раме, и старая скорбь заразит всю кровь и голову, передавшись занозами, глубоко вонзившимися в кожу. теодор впитал ее словно чуму. ты устроила отцу незабываемый скандал, опустила мужское достоинство на дно, но твое такое хрупкое и трепетное сердце желало ласки. оно предавало тебя, правда? каждый раз, когда ты смотрела на него, ты уже не могла отвести взгляд. в воздухе стоял запах слез и мучений, в любой комнате, в которой он находился, смрад настигал его, удушая». монтегю внимательно посмотрел на ванессу. между ними протекала глубокая связь любящей матери и хорошего сына, но с недавнего времени пропасть ширилась, из нее веяло холодным сквозняком. — почему ты хочешь этой свадьбы? — разве она сделает тебя счастливой? хоть на секунду подарит покой?
молчаливый дворецкий чопорно подал пачку сигарет на серебряном, начищенном до сияющего блеска, подносе. теодор неторопливо сколупнул ногтем прозрачную пленку, открыл картонную коробку и, стукнув по мятому дну, подцепил крепкую сигарету зубами. ванесса неотрывно следила за ним, словно кошка, наблюдающая за птицами из окна. о ком ты думаешь? о чем мечтаешь? жалеешь, что я — твой сын?
— теодор, — строгое предупреждение, останавливающее его. с желтого на красный, как на маггловском светофоре. не продолжай. не дави. не пытайся брыкаться. перед убийством скот оглушали. животные теряли связь с реальностью, покорно позволяя забойщику отнимать жизнь. — ты знаешь, что сопротивляться бесполезно. это давнее соглашение, к которому мы слишком долго шли. нельзя отказаться от него из-за того, что ты просто в кого-то влюбился, — последнее предложение ванесса произнесла с высокомерным презрением. — она не из наших, верно? — заметила она со свойственной только ей змеиной проницательностью. — иначе ты бы представил ее мне, не спрашивая разрешения. я все думала, когда ты решишь расторгнуть свадьбу — когда тебе, наконец, надоест прятаться, но сейчас я вижу брешь: она не принадлежит нам. она — запрет, который ты не можешь себе позволить, поэтому ты медлишь. выжидаешь, словно змей в колючих кустах. ничего, теодор, я найду ее, и она сама откажется от тебя: добровольно или нет, я не позволю тебе унизить меня. — она закончила с дьявольской усмешкой на пухлых губах. в задумчивом голосе крылось обещание — разобраться с назойливой помехой и отрубить змеиный хвост. игра началась. перчатка брошена обидчику в лицо. и спокойных птиц в доме на холме распугал пистолетный выстрел. пожмем руки?
теодор медленно закурил и выпустил дым, горький, как хинин. курил с тем видом, с каким ходил на квиддичную тренировку, сосредоточиваясь на каждой затяжке и спокойно наблюдая за ванессой сквозь огонек, вспыхивающий на кончике сигареты от долгих глубоких затяжек. курение, напоминающее медитацию, к которому он прибегал в тяжелых случаях, чтобы успокоиться и не выдать себя, превращая несчастную сигарету в центр мироздания. маленький фокус. она — запрет, ванесса аккуратно порезала тост с яйцом. мать редко морщила свой красивый носик в отвращении, когда говорила о ком-то. она выбирала не замечать грязи под подошвами дорогих туфель, но сегодня ванесса позволяла себе больше, чем следовало приличной даме. монтегю, против воли, затянулся сильнее. легкие вмиг загорелись возмущенным протестом. я найду ее, он почувствовал, как свирепое желание защитить разжигает внутри злость. никто не смел трогать осарио. никто, включая его сумасшедшую семейку. я не позволю тебе унизить меня, — будто бы отец уже не унизил тебя, мама. — ты ничего не сделаешь, — уверенно говорит теодор — ты не посмеешь, выдыхая сизый дым. ванесса поднимает на него насмешливый взгляд; вероятно, ответ очень развеселил ее, и направляет конец острого ножа ему в грудь, спрашивая, — хочешь помешать мне?
почему бы тебе просто не сдаться, теодор?
опусти пистолет.
монтегю слушал мать в мрачном молчании, жадно и долго втягивал дым, а потом пускал через нос. опасно. ему не выстоять в открытом противостоянии: она победит, как только он дотронется до пистолета. попробуй. попытайся отнять то, что принадлежит мне, и тогда придется выжечь меня с гобелена. справишься ли ты с ознобом, терзающим твои кости по ночам? тебя больше некому согреть. никого не осталось — ты одна. — тебе не придется вмешиваться. ничего нет. — а ты знала, что металл чертовски холодный на ощупь? хотя, откуда? ты не любишь марать руки о маггловские предметы: всю дедушкину коллекцию уничтожила, не задумываясь. теодор замирает, будто прицеливается. не дышит и не двигается, только внимательно прищуривается, сосредоточиваясь на маленькой черной точке посередине светлой переносицы. без единого изъяна. мать отвлекается на неторопливый звук шагов в коридоре — отец проснулся и спустился в столовую. напряжение спадает, весь ее интерес сужается до крупной и мощной мужской фигуры в махровом халате. отец смахивал на огромного медведя, которого хуй свалишь. монтегю-младший взял от него лишь крепкие кости и стойкость, в остальном пошел в мать, отхватив несносный характер и жесткую складку на лбу.
«ешь, молись, люби»
дождь за окном затянулся в противную морось. еще в пятнадцать теодор понял, что кто-то все равно любил сильнее. за двоих. чувство, похожее на погружение в соленую воду: закрыть глаза и сделать первый вдох. «они танцевали на благотворительном вечере. ванесса в красном платье выглядела потрясающе: мужчины оборачивались ей вслед, провожали восхищенными взглядами, некоторые — откровенно похотливыми. арчибальд красиво ее закружил, она влюбленно рассмеялась, наклонив голову назад. рубины на ее шее прелестно переливались в ярком свете свечей. она стала его женщиной, страстной и чувственной, подарившей ему троих детей. счастливчик, говорили окружающие. порой он засматривался на плавные изгибы ее женственного тела, трогая мягкую кожу и целуя алые губы. она ухаживала за собой. их ванная тонула в хрустальных флакончиках и бутылочках. принимая ванну, он боялся неудачно махнуть рукой и что-нибудь разбить. потихоньку раздражение вытеснило любовь, и когда-то обожаемый звонкий голос стал для него невыносимым испытанием. они прожили вместе слишком долго. ванесса, почувствовала его скованность и спросила: — арчи, не мучай меня. скажи, что происходит? он не выдержал и признался, я хочу развода». выдох.
арчибальд саттон ненавидел свою семью. очередной зверь, запертый в золотой клетке.
на монтегю накатило мимолетное головокружение, когда все внутри обрывалось и мир казался эфемерным, почти прозрачным. и заметны лишь рваные края. вино приятной сладостью разлилось в глотке. теодор бросил рассеянный взгляд на настенные часы, выпив еще вина. его оставили в покое. отец сонно зевал, наблюдая за дворецким, подающим завтрак. мать заговорила о важных делах, позволив ему погрузиться в алкогольное безумие и растворить очередную таблетку «счастья». я не в силах сделать себя живым, а ты продолжаешь мерещиться мне. он устало потер лицо, чувствуя себя разобранным на части, как же сильно его заебал этот ебаный цирк: просыпаться — притворяться, потом уходить в комнату, чтобы поутру снова задушиться притворством. жизнь протекала по надоедливому сценарию, и ничего не изменится, пока кто-то из действующих лиц не отдаст мерлину душу. авада, я призываю тебя, где же ты? — теодор, — хриплым голосом зовет его арчибальд, механическим движением расправляя ежедневный пророк, — почему решил пойти на стажировку к мракоборцам? — а тебе не поебать? безразлично посмотрев на отца и мать, он сказал: — оставьте меня уже в покое.
боже, как же ему наплевать на все.
***
и почему же он выбрал стажировку вместо блестящей спортивной карьеры?
в прошлом году.
временами враждебность пенилась в глотке. теодор монтегю искренне ненавидел все вокруг. он ненавидел этого гребаного ублюдка — эдвина максвелла, который не прислушался к умному наставлению следить за ебаным бладжером во все глаза и, пропустив его мимо, пушечным снарядом вылетел прямо на него, сбив с метлы. какая досада. какая трагедия. какая глупость. триста метров над землей — именно это расстояние лишило бы данте лучшего друга навсегда. он разбился бы в лепешку, если бы не был гениальным игроком, способным не тупить и призвать метлу в последний момент. ветер ревел в ушах. камнем приземлившись на руку и стерев половину лица в мясо, теодор быстрым шагом приблизился к эдвину и, отбросив метлу в сторону, ударил этого идиота под дых. правая рука взорвалась болью, которую он успешно проигнорировал. максвелл согнулся пополам, не успев среагировать. через пару мгновений он резко выпрямился, выбросив руку, сжатую в кулак, вперед, целясь инстинктивно, слепо тыча туда, где, по его мнению, должен находиться монтегю. теодор без труда уклонился от удара и с садистким удовольствием впечатал кулак в чужой нос. давясь залившей рот кровью, эдвин беспорядочно взмахнул руками, силясь достать в ответ, и они бы подрались на поле, если бы их не разняли остальные игроки. монтегю рвался из рук, как дикое животное, ругаясь на всех подряд. злость красным маревом застила глаза. — я убью тебя, максвелл, слепой ты ублюдок, как только питер отпустит меня, — питер на гневные слова лишь усилил хватку, — питер, черт возьми, отпусти меня! — адреналин кипел в крови, ярость смешивалась с жаждой мести, эмоции одуряли, словно он положил круглую таблетку на корень языка. она с шипением растворялась. эдвин виновато смотрел на него своими щенячьими глазами; видимо, его до чертиков пугало ободранное лицо. он повторял, как заведенный: — тео, прости меня! я не специально, совсем его не заметил. я старался следить за ним, но он прилетел из ниоткуда, возник из воздуха. мерлин, тео, прости меня, я так виноват. — монтегю же не слышал напарника, сплевывал кровь и кричал, чтобы его, наконец, отпустили. — я ненавижу тебя, максвелл. я сто раз говорил тебе следить за бладжером, но ты, придурок, все пялился на свою девчонку. теперь поздравляю — ты не в команде, я добьюсь того, чтобы ты никогда больше не сел на эту чертову метлу!
ему безумно хотелось курить. дайте, пожалуйста, сигареты.
он устал биться головой о темноту. теодор ненавидел стены в больничном крыле, где постоянно пахло отвратительными лекарствами. лицо жутко чесалось, будто его искусали москиты. голос сел и охрип, и из глотки вырывались лишь грязные ругательства. в черепе взорвалась сверхновая. бесило, злило и выворачивало наизнанку то, что парни не дали ему еще раз хорошенько съездить максвеллу кулаком по роже. — я хочу его ударить, — упрямо вырывается из него болезненным рыком; рядом питер, бедняга, тяжело вздыхает и вымотанно произносит: — нельзя, тео, успокойся. на испуганном эдвине — ни царапинки, кроме разбитого носа, сидит тихо, как полевая мышь, на соседней койке, вымаливает прощение, будто на нем ебаная скорбь всего мира; на измученном и измочаленном теодоре — повязка, закрывающая правую сторону лица, стертые костяшки пальцев, помятый бок, и гипс на кисти, с которым ему придется проходить минимум дня три. теперь он походил на франкенштейна, собранного по кускам. давайте соберем паззл из недостающих деталей. у данте встревоженный взгляд, теодор коротко вздыхает и насмешливо дразнит: — нравлюсь? — красавец, скажи. горло сжимает противным спазмом бессилия и тихого бешенства одновременно, он терпеливо сглатывает, успокаивая себя: никакого квиддича. он серьезно повредил правую руку, что последние удары по максвеллу только ухудшили ситуацию. теперь пальцы совсем перестали шевелиться, и монтегю оставил идею задушить эдвина подушкой до лучших времен. не думай, что тебе все сойдет с рук, говнюк.
данте подле него. его руки легли на плечи теодора, такие знакомые и теплые, что их жар ощущался даже сквозь квиддичную форму, затем поднялись к шее, мазнули пальцами кожу за ушами и медленно, с нажимом, зарылись в непослушные кудри. друг прикасался к нему нерешительно и осторожно, словно прикладывался губами к святыне, и от подобной скромной ласки внутри полыхнуло жаром, будто подкинули спичку в канистру с бензином. монтегю запустил пальцы левой руки в волосы фоссета, нежно погладил затылок и, притянув ближе, мягко поцеловал. он услышал судорожный вздох перед ответом, и почувствовал, как чужие пальцы сжали волосы сильнее, словно тео — единственный, кто мог держать его перед падением в пропасть. — нравишься, — с придыханием шепчет данте ему в губы, отстранившись на секунду лишь для того, чтобы коснуться снова. монтегю коротко улыбнулся в поцелуй, фоссет слегка прикусил его нижнюю губу — их языки переплелись, разделив терпкий вкус крови на двоих. всегда, верно. если бы он прислушался, то услышал быстрое сердцебиение друга. теплота переполняла сердце взаимностью. иногда он не понимал, как не замечал этих разрушительных чувств раньше. питер издал звук, похожий на «пожалуйста, не продолжайте, тут же люди», заставив их оторваться друг от друга. дыхание осарио тепло касается щеки теодора, и он видит разгорающиеся искры счастья и легкую тень смущения в глубине светлых глаз. ты — для меня. фоссет осторожно тронул белую повязку и, машинально облизнув губы, медленно провел по коже, очертив неровные края. его твердый взгляд говорил о расплате: я с тобой, только скажи, что надо делать. — ты такой романтик, — с усмешкой отзывается теодор, обнимая его за талию.
внезапно накатило странное оцепенение: — и что, никакого чемпионата мира по квиддичу? — голос глухой и задушенный, словно ему проткнули легкое острой иглой. слышите громкий свист? это в нем сдуваются планы на будущее. он же так мечтал о большой арене. о восторженном реве толпы. о ветре в волосах. о пьянящей свободе. поменьше напрягать руку. исключить любые активности. со временем она вообще перестанет двигаться. до него долетали лишь жалкие обрывки фраз из уст целительницы. запах крови забился в ноздри, а голова раскалывалась от боли. кроме злости и ослепляющей ярости монтегю ощущал бесконечную пустоту, мешающую соображать: еще чуть-чуть и он, кажется, проклянет максвелла. этот придурок, он сможет и дальше играть в квиддич, а теодор уже нет. и вот стоило оно того? те удары? данте погладил заднюю сторону его шеи в успокаивающем жесте поддержки. монтегю глубоко выдохнул, сообразив, что перестал дышать. раздражающая слабость расползалась по венам.
позже
теодор вернулся из больничного крыла в помятом, уставшем и опьяненном состоянии. день выпотрошил его как чертову рыбу. соседи — томас и гилберт, видели десятый сон, и монтегю подумал, как же забавно наблюдать за спящими людьми, совсем не подозревающими о двоих, пылко терзающих друг друга страстными ночами. он медленно разделся и надел белую футболку, оставшись в черных боксерах. рухнув на кровать и закрыв глаза, он приготовился забыться прекрасным, сладким сном, как почувствовал шлейф мятного парфюма данте. не зря его всерьез сравнивали с псом. движимый древними инстинктами: целовать и трахать, он повернулся на правый бок, настойчиво проигнорировал боль в руке и придвинулся к спящему осарио вплотную, как всегда делал, когда они ложились спать. данте ждал его: книга с закладкой лежала рядом с ним, свет от догорающей свечи отбрасывал тени на плотную ткань темно-зеленых штор; видимо, он решил на минуту закрыть глаза и заснул. особенные моменты, как этот, он бережно хранил в памяти. монтегю потерся кончиком носа за мочкой уха фоссета, и улыбнулся слишком довольно, словно сытый кот. ему нравилось с шумом вдыхать родной запах и чувствовать легкое возбуждение в теле, а сейчас он был немного обдолбан таблетками и лечебными зельями, слегка уставшим из-за квиддича, чуток разозленным на эдвина, который разрушил многолетнюю мечту, и просто влюбленным парнем, желающим вставить своему хорошему мальчику.
— тео, — позвал данте, сонным и тихим голосом, когда теодор прикоснулся к чувствительной коже губами, пустив мурашки по всему телу. после первого раза монтегю хватило ума пошутить «а что, если не тео?» и с лихвой отхватить локтем по печени, заставившим его проглотить дальнейшие шутки. фоссет удивлял не только своей соблазнительной покорностью, но и чрезвычайной непредсказуемостью — он любил это. тот взгляд — теодор запомнил его — злобный, испуганный и мрачный, которым данте посмотрел на него, ото сна еще не осознав кто перед ним, натолкнул на мысль, что осарио не позволил бы кому-то еще прикоснуться к себе в романтическом смысле. их отношения — такие хрупкие тогда, рисковали развалиться карточным домиком. синяки, оставленные им, наливаются синим, когда монтегю прикасается к крепким бедрам данте. зависимость, которую люди выдавливали с корнем, словно гной из старой раны, отравляла обоих — они уже потонули в глубоком море безвозвратно. для него стало естественным, как дышать, отвечать — да, я, — и чувствовать, как по телу растекался жар, пленительный и дурманящий, и не сомневаться, что на лице написано откровенное желание, раскрывающее себя в каждом напряженном выдохе. слегка прикусив тонкую кожу на шее, теодор погладил теплый живот и двинулся вниз. их губы сталкиваются в чувственном, откровенном и нетерпеливом поцелуе, настолько голодном, что перехватывает дыхание. он пробирается под резинку пижамных штанов, оглаживает бедро и сжимает охуенную задницу осарио, ловя губами протяжный стон.
мир перестал существовать — они любили друг друга с жарким дыханием по лицу, с бешеным пульсом в висках и подушечках пальцев, разделенным через кожу, с накалившимся запахом прямого намерения, уже перепутавшегося синими следами, алеющими пятнами, сладковатыми нотами крови и отравленными корнями. сделай мне больно. сожми меня крепче. неистовая сила чужих пальцев в волосах сжимает и тянет, чтобы съехать губами под щеку, разрядами давления и полуукусов пасть вместе с частым пульсом под острую челюсть, на мускулы шеи и трапецию, тронуть носом линию волос и, слизав солоноватый пот, пропустить сердцебиение ниже грудины и живота. вжимаясь пахом в задницу осарио, он ощутил ответную дрожь и лихорадочное желание, граничащее с отчаянной потребностью почувствовать его внутри. да, малыш, скоро я буду внутри тебя, подожди немного. — тео, — взволнованно прошептал фоссет влажными губами ему в висок, — твоя рука. — монтегю остановился и, горячо выдохнув, оставил пару поцелуев на бледной коже за ухом данте. — пока нормально, не болит, — спокойным шепотом отозвался он, приникнув к губам осарио успокаивающим поцелуем. тело под ним заметно расслабилось. ему пришлось ненадолго отстраниться от друга, чтобы задернуть полог, наложить очищающее и заглушающее, и достать смазку из-под подушки. они медленно разделись. данте прикоснулся губами к шее в дразнящем поцелуе, слегка прикусил и оттянул бледную кожу, пустив по позвоночнику мелкую дрожь. никто не прикасался к теодору столь свободно и открыто, и никто никогда не прикоснется — только осарио позволено видеть его таким. припадая к пухлым губам долгим, жадным и глубоким поцелуем, ему казалось, что он умирал в адском огне. они целовались тысячу раз, и каждый раз он истлевал и рассыпался пеплом в комнате, переполненной призраками прошлого, а потом возрождался как феникс, становился целым и оживал, ощущая каждую клетку своего тела, каждый грубый шрам, въевшийся в кожу, каждую неровную царапинку от незнакомцев и каждую попытку вновь умереть. губительный огонь охватывал, очищал, закаливал и залечивал раны, наполняя его жизнью. желанием. и от этого яркого калейдоскопа голова шла кругом — хотелось большего. дурея от удушающего предвкушения, он несдержанно сминал теплые, мягкие и сочные губы, врывался языком внутрь, щекотно касаясь кончиком десен.
данте запустил пальцы в его волосы, лаская и поглаживая, не забывая осторожно касаться чувствительных мест за ушами. у монтегю не так много эрогенных зон на теле, но фоссету удалось обнаружить каждую. в прикосновениях заключалась безмолвная просьба, которой теодор подчинился, не задумываясь — слегка наклонил голову назад, позволив осарио вновь приникнуть к шее и, оставив губами и влажными движениями языка пылающую дорожку, нежно попробовать кожу на вкус. чужие пальцы играли с точками контакта на его теле, что сгорали последние предохранители, превращая кости и плоть в раскаленный добела порыв — с нажимом пройтись пальцами по коже крепкого бедра и схватиться за него, чтобы поднять, неторопливо потереться между упругими ягодицами и дать прочувствовать вес его возбуждения. данте рвано и неровно дышал ему в рот, когда в него медленно проникли скользкие от смазки пальцы. тот немедленно сжался, издав громкий, беспомощный стон, посылая по телу теодора жаркую волну. ему очень сильно хотелось войти в доверчивого данте, который так интимно и уязвимо жался к нему, звал по имени, словно ничего другого ему не приходило на ум, сжимал пальцами волосы и прижимался губами к виску. тебе хорошо? мне безумно. осарио трогательно дрожал внутри, и ему даже не требовалось просить монтегю прекратить сладкую пытку — он вытащил пальцы и, выдохнув в полуоткрытый рот, неспешно вошел. не дай мне уснуть сегодня.
***
настоящее.
тридцатое августа. графство дорсет, особняк семьи фоссет.
— может, вообще не оставлять тебя одного? — теодор подходит к данте без привычного сопротивления. без попытки отстраниться или остановить: его тело стремилось к осарио и хотело его близости.
временами люди принимали его за бессердечного парня. он не дарил красивым девушкам цветы. не разбрасывался обещаниями о чистой любви. не говорил по душам при звездах. все чувства он мог выразить одним предложением — ты со мной? габриэль монтегю — средний брат, легилимент и настоящий засранец, пролез ему в башку и сказал: — тео, не играй с ним, — внимательно наблюдая за тем, как теодор медленно перебирал старые акварельные наброски. кроты рыли длинные туннели, и этот крот прорыл достаточно глубокую яму, чтобы увидеть данте голым. монтегю, крайне заинтересованный и заинтригованный, повернулся к нему лицом, продемонстрировал вовлеченность в разговор «я весь внимание, вещай» и терпеливо ждал следующих предупреждающих слов от брата, которому в целом — почти всегда — было наплевать на всех вокруг, кроме себя. он отворачивался от неприятностей, возможных проблем и беспричинного беспокойства, закрывал глаза на взаимоотношения, выстроив высокую стену, чтобы никто не залез ему в сердце, а сейчас, вы только посмотрите, теодор слышал нотки волнения и участия, доказывающие, что габриэль, его милый брат, являлся обычным человеком, а не психопатом, способным вонзить аваду ему между лопаток — потому что захотел. их семейная черта — игнорирование. и невмешательство, нарушенное братом, повеселило его. габриэль повторил, я о данте, не играйся с ним, будто осарио был мячиком, который монтегю подбрасывал в воздух. какого черта, габриэль?
— габриэль, знаешь, мне всегда было все равно, кому бить морду. еще раз подсмотришь — и я выбью из тебя желание продолжать. в этот раз ты перешел черту. — когда мир пускался трещинами при виде смущенной улыбки, разве он сжимал слишком сильно, до боли?
я хотел случиться поцелуем у тебя на ключице. мятный запах данте ласкал ноздри, дурманил голову воспоминаниями о той ночи, щекотал и дразнил, манил порочным обещанием, от которого он никогда не откажется. ему дико хотелось пропустить едва вьющиеся на концах пряди волос осарио сквозь пальцы, погладить затылок и шею, уткнуться носом, прижать друга к себе и, впитав родное тепло, сплавиться с ним воедино. мягкий, кошачий тон его голоса окатил теодора жаркой волной удовольствия. — не оставляй, — твое место всегда будет рядом со мной, хрипло произносит монтегю, не вложив в голос особенной интонации. твердое и простое, выгравированное на внутренней стороне его ребер, тайное знание, как короткое сообщение на холодной плите, оставленное кем-то близким. оно оставлено тобой, данте осарио фоссет. и оно останется там, пока кости не рассыплются в земле прахом. и требовательный стон в последний раз опалил темные буквы.
приветственный поцелуй медленно перерастал в горячий, глубокий. теодор сжал волосы на затылке данте, целуя его длинным томным погружением: язык скользил по языку, а зубы слегка прикусывали трепетные губы. он издал низкий звук, который монтегю жадно впитал губами, выпив до дна. они разделили удушливые чувства, теснившиеся в грудной клетке на двоих. каждое движение опьяняло, заполнив разум теодора безупречными, щекочущими ощущениями, как если бы провели кончиком пушистого пера по кадыку. ничего не имело значения, кроме осарио: его дрожащие пальцы, впивающиеся в предплечья рук, в попытке сократить расстояние и продлить контакт, чувственные губы, преданно отвечающие ему, нетерпеливые прикосновения языка, то и дело заинтересовано очерчивавшего металлический шарик тонкой штанги в его языке. они обменивались жарким дыханием, нежно касались языками и губами. замирали, стараясь прочувстовать каждый миг, и снова искушенно тянулись друг к другу, растягивая трепетный момент долгожданной встречи, и отстранились, когда стало нечем дышать. я тоже скучал, малыш, отвечает безмолвно, на уровне ощущений, касась теплым дыханием щеки. его губы растягиваются в расслабленной улыбке.
с днем рождения, малыш~
смущенный данте выглядел потрясающе невинно — теодор не мог отвести от него взгляда, внимательно наблюдая за плавными движениями друга. монтегю тянет фоссета к себе, заставляя прижаться еще ближе, обнимает за талию и вовлекает в недолгий поцелуй, а после ласково гладит по спине, когда чужой нос касается шеи. он вырос в холодной семье: никто не обнимал его, и теодор не пытался согреться в незнакомых объятиях. не привыкший к чужим прикосновениям, монтегю отстранялся от любого, кто хотел почувствовать его тепло, но дикие поцелуи в порыве страсти и горячее дыхание данте лишали рассудка. теодор с голодной жаждой встречал каждое касание, и благодарность осарио он принял с бесконечным, тихим, неизменным и высеченным: — все мои украшения только для тебя. — однажды агата, однокурсница и подруга, попросила сделать серебряное кольцо, но теодор отказался, сказав, что у него недостаточно опыта. на самом деле ему не хотелось тратить время на украшение, которое будет носить не данте. красивый и чертовски привлекательный осарио в его драгоценностях будоражил воображение, монтегю представлял его голым, безумно возбужденным, мелко подрагивающим на постели и широко разводящим ноги в стороны — от одной только картины пересохло в горле и сладко заныло в паху.
— что произошло? — от приятного поцелуя в щеку его в секунду отвлекает вопрос.
это длинная история. теодор неосознанно хмурится, вспоминая неприятный вечер четверга — он подрался с ларри, еще одним мудаком с зеленого факультета, который портил остальным кровь громкими и хвастливыми историями, тесно связанных с его постоянными изменами. парни закатывали глаза, как только ларри заводил разговор о тонких и звонких девчонках. никому не нравилось слушать пошлости, когда обсуждение заходило за школьные предметы, новых преподавателей и просто жизни вне родительских стен. каждый раз он чувствовал утомление и скуку, слушая, как ларри удалось завалить кого-то неприступного с другого факультета, ведь на слизерине ему уже не давали. это даже не было смешным или забавным, и монтегю думал, что когда-нибудь ларри просто превратится в школьный мем. станет тем, кого избегают, лишь бы тот не присел на уши. теодор равнодушно относился к изменам, которые его не касались: не имел привычки заходить в чужой храм со своим никому не всравшимся мнением, предпочитая держаться от скандальной грязи подальше да и плевать ему было, если честно. с высоты астрономической башни. его не трогали и ладно, он разрешал ебаться с кем угодно, как угодно и где угодно, хоть в кабинете директора. — ларри опять спизданул лютую хуйню, — с тяжелым вздохом произносит монтегю и машинально трет лицо, показывая усталость от одной только мысли об этом придурке. иногда кулаки чесались, просто пиздец. вау, он меня реально раздражает, поразительно. ему, наконец, удалось вызвать во мне настоящие эмоции кроме отвращения.
— парни пригласили меня на день рождения девчонки с барсучьего факультета, уже не помню ее имени, мол, она по тебе с ума сходит, приходи, будет весело. — теодор усмехнулся, вспоминая их отчаянные выражения лиц, с надеждой смотрящих на него. он — их золотой билет, без него никого бы не пустили на вечеринку. слизеринцев мало куда пускали — сами понимаете: незавидная репутация темных волшебников и заядлых бабников. взять хотя бы ларри, не пропускающего ни одной юбки. — я идти не хотел: ты знаешь, что я не люблю тратить время на хрень, но мать снова устроила невероятное шоу с разбитой посудой и не успел я моргнуть, как уже пью с агатой и обсуждаю трансфигурацию на крыльце чужого дома. — легкие прикосновения невероятно сильно отвлекали от последовательности мысли, о чем он сразу же сказал данте, но все равно коротко поцеловал кончики изящных пальцев. опять осарио смотрел на него, как магглы на иконы — с обожанием. вероятно, его брат точно что-то знал. пристально посмотрев в светлые глаза, он прижался щекой к теплой ладони фоссета. — я спокойно курил и говорил с агатой, пока этот придурок не обратился ко мне, — монтегю вновь поморщился, возвращаясь к мерзкой фразе, в шутку адресованной ему. — он сказал, давя дурацкую ухмылку: тео, а тебе очень повезло с данте, ведь он может простить тебе абсолютно все, даже измену. — осарио знал, что творилось с его семьей. насколько сильно она была разбита и разбросана по старинному особняку, и насколько сильно ее осколки впивались в его ступни при ходьбе по скрипучему полу. фоссету приходилось убаюкивать теодора, когда он, зависимый от таблеток, пытался с них слезть. в темные времена монтегю никого не подпускал близко: сидел в запертой комнате и нес разрушение в себе, выкрикивая «убирайтесь из моей головы!». он разбивал все, что попадалось ему на пути, а легче не становилось, боль лишь продолжала пульсировать в сердце. казалось, что начни вновь принимать таблетки и блеклые образы из ночных кошмаров исчезнут из памяти: отец с матерью больше не будут сражаться на дуэли насмерть, ненавидя друг друга. эти двое, они снимали с него кожу. и стоило этому придурошному ларри произнести запретное слово «измена» в контексте, что теодор может трахать всех направо и налево, будучи занятым парнем, без последствий, как он тут же разозлился. если ларри изменяет своей девчонке, то это не значит, что изменяют все вокруг. измена — это не про увлекательный поход в туалет.
монтегю накрыл руки данте своими и сказал: — я ответил: ларри, ты думаешь, что измена — это сходить и выпить сливочного пива? вот просто взял и выпил, да? без последствий? — умолчав о том, что как только теодор начал говорить своим особым, спокойным голосом, предупреждающим о нападении, все разом притихли, внимательно наблюдая за происходящим. дурачок разбудил спящего зверя. в тот момент он представил вместо заплаканной матери, отчаянно цепляющейся за него, задыхающейся и говорящей: «тео, дорогой, как же мне избавиться от этой боли? мне кажется, что я задыхаюсь. лучше бы мое сердце никогда не знало любви» — страдающего данте. — мне хватило одного емкого ответа: «а что тут такого?» для нападения, и только питеру, бедняге, удалось меня стащить с него. — питер в два раза сильнее теодора, и в два раза добрее: он не позволял монтегю марать руки о других людей. во время разговора он ни разу не отвел взгляд, сохранив прямой зрительный контакт, позволяя осарио, как всегда, заглядывать ему прямо в душу. теодор сжал руку данте, медленно поднес его пальцы к губам и, поцеловав костяшки, ласково погладил большим пальцем. — мне кажется, или все думают, что у нас свободные отношения? — на губах мелькнула насмешливая ухмылка: если бы они знали, как ему приходилось сдерживаться, чтобы не посадить данте себе на колени на уроках, то перестали сомневаться в них. теодору не нравился данный расклад, о чем очень доходчиво и понятно поведали его кулаки, оставив невысказанные слова на подтянутом теле ларри, захлебывающегося кровью и словами. может, когда-нибудь ненависть внутри монтегю утихнет, но это точно будет нескоро.
дядя говорил ему — у любви есть срок, а мать — нет; теодор монтегю считал, что существовала лишь плата, которую люди вносили за счастье. мать посвятила годы драгоценной жизни отцу — боготворила и хранила верность, словно не чувствовала вокруг шеи жесткие тиски. отец мечтал покончить с ней, а она любила его — искренне, фанатично, на грани потери рассудка. данте же бережно оберегал желание быть с ним в сердце, позволив монтегю жить в неведении, не обременяя друга, казалось бы, запретными и невзаимными чувствами. теодор чувствовал глухую боль в грудине, прикасаясь к осарио — ты — моя свобода, и иная мне не нужна. позволив себе маленькую вольность пойти против завета матери. пойти против семьи ради любви. и разрушить то, что многие годы сковывало его запястья. отец не выберется — мать не даст, а он еще может увидеть свет, ведь по своей природе он больше пошел в ваннесу, она должна его понять и когда-нибудь простить — у нее получится.
они стояли так близко друг к другу, что данте мог почувствовать запах сигарет от одежды и волос теодора. осарио всерьез вознамерился освободить его от материнской удавки, вызвав лукавую улыбку на лице. кто-то очень сильно соскучился. монтегю обрамил ладонями смущенное лицо фоссета и лизнул его губы с дразнящей усмешкой. раздвинул их языком и провел по зубам, мазнув травянистым привкусом табака и мягким, сладким, глубоким — огневиски. он хотел дотронуться каждой своей частицей до каждой частицы данте: зубов, маленьких и аккуратных, послушного языка и внутренней поверхности щек. запах табака сплетается с головокружительным мятным, и он улыбается, когда фоссет ловко расстегивает пуговицы рубашки. проскользнув подушечками по гладким щекам, теодор плавно опустился пальцами на шею и медленно оторвался от губ, чтобы съехать влажной дорожкой языка на сонную артерию, чуток зацепив зубами тонкую кожу. опалив дыханием острый кадык, он опустил руки на ремень фоссета и, расстегнув, слитным движением выдернул из шлевок. не только данте сгорал от нетерпения — монтегю тоже слишком долго ждал. сердце тяжело бухало о ребра, в легких выело воздух, а влажный поцелуй в шею отдался жаром в паху. теодор гулко сглотнул и, сжав руками упругий зад осарио, возбужденно подался бедрами вперед, крепко прижав фоссета к себе. хотелось вновь броситься губами на губы оголодавшим зверем, но вместо этого он увлеченно провел большим пальцем по нижней губе осарио и, дождавшись, когда парень послушно откроет рот, коснулся влажного языка, хрипло проговорив:
— покажи, как сильно ты по мне скучал, малыш.
прошлой ночью я представлял твои губы на своем члене.
«держаться за руки, пока солнце не упадёт за горизонт, amore mio, с глазами, наполненными таким горячим теплом, на которое, мне казалось, не был способен, я мог бы расплавить твою душу.
мать говорила, свадебной клятвой отца были слова «dimmi che non lascerai mai»: скажи, что никогда не уйдешь. отчаянная просьба, приказ, проклятье, угроза. эдвард пользовался тем, что ей некуда больше пойти, и упивался своей властью. он вынудил её, улыбаясь, хвалиться историей о свадьбе за ужином с коллегами из министерства. звучали слова «было очень романтично», гости согласно кивали, и если бы обиженный из-за в очередной раз нарушенных планов данте не сверлил камиллу недовольным взглядом, он бы никогда не заметил ту секунду промедления на лице женщины. страх и отвращение, которые она умело спрятала за брезгливостью к вовремя поданному блюду, — «верните на кухню, не люблю устрицы». камилла была прекрасной актрисой. данте уставился в тарелку, думая о предстоящей встрече с теодором, и больше не смотрел в сторону матери.
мы говорим, «я всегда буду рядом», при этом не произнося ни слова.
мы двое везучих несчастных, что нашли друг друга среди боли и тьмы, и мы мечтаем об
одной свободе
на двоих.
порой, сломанные части могут стать одним целым.»
***
гостиная слизерина гудела разговорами юных волшебников, по большей части фыркающих и не одобряющих объявление о новых преподавателях этого года. полукровки и магглорожденные? будут учить чистокровных? — больше половины студентов уже могли представить, как взбесятся их родители, назовут данное решение «полнейшим абсурдом» и захотят кого-то за него непременно распять. и без того небольшое помещение накалялось от нарастающей тревоги, становясь тесным. профессор попыталась отвлечь слизеринцев разговором о празднике в честь начала учебного года, для некоторых, включая фоссета и монтегю, последнего, а порой, теряя терпение, повышала голос, призывая к тишине и порядку, но никто, конечно, слушать не собирался. это невозможно было остановить: во всю неслись эмоциональные перешептывания, сплетни рождались, плодились на ходу, а в те самые редкие молчаливые секунды, когда большинство переводило дыхание, кто-то вбрасывал злобную шутку, и всё начиналось заново.
данте молчаливо, скучающе наблюдал за суетой, прижавшись спиной к каменной стене под аркой. он подошёл на собрание последним, даже не попытался вникнуть или пройти дальше трёх шагов от двери, и слушал вполуха. сплетни нельзя пропускать, но если он что и искал, взглядом цепляясь за каждое движение в толпе, собравшейся плотным полукругом у камина, то точно не их, не информацию, не сплоченности мнений. интересно, там ли уже теодор, среди остальных, в центре событий, участвует ли в шутках, над которыми все разрывались смехом, или, может, тоже опоздал? опаздывает? не возникло ли у тео проблем из-за их самовольной вылазки в лондон перед началом учебного года? сказала ли ему что-то ванесса?... камилла по обыкновению не унималась весь вечер: что-то про плохой пример для киары.
галдёж, казалось, только усилился, — девушки перетянули почти всё внимание с изменений в персонале школы на платья и обсуждение парочек. «как думаете, с кем пойдёт монтегю? может, в этом году, наконец, настал мой шанс?» — расслышав имя тео в данном контексте, осарио тут же прыснул себе под нос, сложил руки на груди, и «отпружинил» от стены. обвёл обладательницу нулевого шанса снисходительным взглядом, возвышаясь на каменных ступеньках. она не была тупой сукой, и во время работы в группах на зельеварении от неё порой была польза, но зачастую девица пиздец как раздражала данте. синистер грейвс, высокая брюнетка, постоянно задающаяся бессмысленными вопросами, крутанулась на ботинках с массивной подошвой, вся в лязгающих цепях, и резко повернулась в чью-то сторону. впервые за двадцать минут происходящее перестало быть для фоссета смазанной картинкой, слова и лица можно было разобрать. взгляд парня проследил за направлением, в котором двигалась слизеринка, но знакомые тёмные кудри он не заметил, так что, нет. странно.. с большим сомнением, но продолжил наблюдать. на всякий случай. затем, столь же внезапно как решительность грейвс появилась из ниоткуда, так и улетучилась. девушка замерла на мгновение в растерянности, а потом пожала плечами. вернулась к подругам: «нет, не он. показалось».
окружение вновь стало неразборчивым цветным пятном. данте расслабился, отступая полшага назад, но, когда вновь хотел облокотиться о стену, плечо уперлось во что-то мягкое и тёплое. осарио вдохнул знакомый запах дыма сигарет, завёл руку за спину, и уже через секунду почувствовал, как тео, сперва скользнув по запястью, уверенно переплел их пальцы. — скучаешь, красавчик? — уголок рта данте дёрнулся в улыбке. — пойдем со мной, — шепнул ему на ухо монтегю, обжигая дыханием шею, невесомо целуя место у виска, и щекоча курчавой чёлкой скулу. не дожидаясь ответа, теодор развернул и потянул парня за собой, и данте послушно последовал. монтегю не против был искупаться во внимании, всеобщем обожании, определенно, заслуженном, — но когда кто-то говорил о данте, в нём просыпалась жадность. пока он курил, две девушки из когтеврана обсуждали фоссета, мол, тот стал ещё горячее за лето. осарио же, вечно избегающий шумихи и комплиментов, только и слышал, что разговоры о том, какой теодор ахуенный. пусть он был согласен с данным неоспоримым фактом, не мог избежать уколов ревности. не мог не начать скучать в ту же секунду, и искать встречи поскорее.
они виделись всего пару дней назад, но оба чувствовали одно и то же. они безумно соскучились, а все эти разговоры окружающих, как всегда, лишь распаляли их огонь, что горит только лишь друг для друга.
— хочешь поцеловать меня?
всегда.
[[… необратимость абсолютной зависимости от человека измеряется тем, как его имя становится преследующим, едва уловимым ощущением, не только лишь горько-сладким вкусом слова на кончике языка, — растягиваешь, наслаждаешься, — вбираешь снова и снова, и всё равно: мало. чувство, подобно пьянящему предвкушению близости. опасная смесь из желания обладать и неспособности забыть о том, какого это было: держать, прижимать, растворяться в ком-то без страха или сомнения, без остатка, вдыхать запах кожи, древесного парфюма и табака, запаха, который ни с чем не спутать, — знакомый шлейф всегда в воздухе, и какого это: слышать стук собственного сердца в висках, и вздрагивать от прикосновений, таких пылких, требовательных, ласковых, о которых когда-то смел только мечтать, а теперь засыпаешь с единственной мыслью: как никогда не перестать касаться. зависимость измеряется тем, как он произносит: «ты — мой», словно впивается цепкими пальцами прямо в душу, распаляет внутренний холод своим жаром, разгоняет тепло по венам. в его присутствии, наконец, можно почувствовать себя живым, и тогда в ответ на столь явное собственничество хочется также по-свойски прикусить его кадык, соблазнительно опускающийся под низким бархатом голоса, а после неизбежно прильнуть к губам. оставить красные следы на теле. где-нибудь рядом с одной из скрытых под чарами татуировок, ведь расположение каждой уже запечатлено в памяти навсегда, с самого первого раза когда маскирующее спало на пике их наслаждения. с ним время не останавливается, напротив, оно идёт вперед; каждая секунда пульсирует под кожей, каждая секунда — как прикосновение, которого всегда не хватает. всё вновь наполняется смыслом.
 твой.
твой.
любовь безжалостно вросла корнями в сердце, разрушающая и прекрасная; она была: в каждой детской глупости, и в том, с какой уверенностью можно вести за собой кого-то коридорами впечатляющих сознание мест, сжимая ладонь раздражённо, но с толикой нежности [«эй, ты всё время отвлекаешься, дай сюда руку» — будто требовал, а не просил, отводя взгляд, пряча вслух непроизнесённое, однако в голосе всё равно скользнула та самая тёплая, бережная привязанность.]; она есть: в каждом обожающем взгляде, в отсутствии личного пространства, когда речь идёт о нём [ведь как сидеть рядом в кабинете, или за ужином, и не касаться? как не сжать рукой мягкое место чуть выше колена, скользнуть ещё выше, сжать снова, пробежаться пальцами, считая заломы на ткани брюк, намекая что пиздецки соскучился?], и бесчисленном количестве поступков-признаний; и она всегда будет, даже когда всему миру придёт конец. нет ничего столь требовательного, столь волнующего как любовь. беспощадного.
когда желание быть рядом лишь растёт с каждой встречей, — мысли о том, что есть норма стираются, остаются только неумолимая нужда быть ближе, эйфорическая дрожь, разряды, посылающие в мозг дофаминовые сигналы — на них подсаживаешься быстрее и незаметнее, чем на таблетки «счастья». а стоит объекту — нет, не воздыхания, — это иное, что не описать словами, граничащее со щенячьей преданностью и бесстыдном вожделении одновременно, — появиться в том же помещении, даже зная, он обязательно окажется совсем рядом, непринуждённо касаясь, напоминая, что так было и будет всегда — глаза найдут силуэт быстрее, чем мозг отправит сигнал. забудутся и исчезнут все беседы, мысли, занятия, существовавшие всего секундой ранее. «я. хочу. тебя. сейчас.» в голове словно щелчок, когда взгляды встречаются, и тот, напротив, зеркалит азарт и желание.
приятное покалывание, словно кто-то провёл ногтями внутри головы, разойдется по затылку, по шее, пойдет ниже, накроет обоих — будто нечто проснулось под кожей, живое и голодное. как приступ лихорадки при ломке — тело вспоминает то, чего разум ещё не успел осознать.
можно ли сказать: «просто лучшие друзья», — если поздно ночью он дышит на шею друга, уснув в его кровати, ведь «к себе идти лень», — горячо, нежно, так близко, что дыхание оставляет невидимые поцелуи? насколько двое близки, если пальцы переплетаются под одеялом, или неспешно оглаживают изгибы, запоминая каждый? кажется, быть беде, или как крепко тела должны быть прижаты, чтобы хотя бы один признал: это не потому что в комнате как-то прохладно? в июле. сколько раз большой палец должен коснуться губ лучшего друга, провести по нижней с нажимом и каким-то библейско-плотским, чёрт возьми, наваждением, прежде чем удастся поймать жадный взгляд и, наконец, очевидную мысль: «мы зашли слишком далеко»? прежде, чем слово «черта» потеряет всякое значение, прежде, чем даже ступив далеко за неё, — всё ещё никак не насытишься. ]]
данте заставил себя отступить два раза перед тем, как не смог вновь. перед тем как он мог без предупреждений податься вперёд, накрыть своими нервно искусанными губами губы теодора, на этот раз полный решительности, уверенности, и монтегю ответил ему сразу. довольно улыбаясь, чем свёл осарио с ума от воодушевления, улыбаясь, возможно, не планируя, а может, дразня специально, пытаясь отдать как можно больше любви в ответ. данте ощущал себя счастливым: тео жадно вбивался вздымающейся грудью в быстро бьющееся влюблённое сердце друга, открывал рот, пробовал на вкус, изучал языком с дразнящим металлическим шариком, будто всегда только этого и ждал. осарио плавился, растекался под ним, почти сразу охотно передавая инициативу, полностью отбрасывая привычное стеснение. парень с большим удовольствием поддался, когда крепкие руки спортсмена, лучшего игрока в квиддич школы, притянули его за бедра, и заставили усесться на него сверху, уперевшись своими коленями в мягкую обивку под ними, чтобы двое стали ещё ближе, почувствовали нарастающее возбуждение друг друга через одежду — два подростка — ждать долго не пришлось. фоссет бесстыдно, с нажимом, коснулся тео через брюки, и, почувствовав, насколько сильно его хотят, поспешил расстегнуть ширинку. cлизеринский диван в гостиной тихо скрипнул под весом их тел, когда данте в какой-то момент привстал, не разрывая поцелуя, чтобы запустить пальцы в волосы теодора, слегка потянуть кудряшки назад, и тот запрокинул голову. и пока осарио впивался губами, вылизывал, и слегка прикусывал лицо того, в кого влюблён, и чувствовал на своём теле скользящие теперь по спине, а не бёдрам, руки, задирающие рубашку, обнажающие кожу, горячие пальцы с холодными кольцами на них, оставляющие вмятины-следы на голых участках — в голове набатом лишь одна мысль — пусть момент продлится вечно.
только монтегю было позволено сделать это: полностью забрать контроль, отогнать прочь меланхоличную рефлексию, в которой хоронил себя заживо данте, укутываясь ею, словно могильным мхом. только монтегю позволено выхватить каждый пошлый, умоляющий, и нежный стон из фоссета. он может делать с ним всё что угодно: входить резко, до упора, или замедляться, растягивая момент, заставляя чуть ли не слёзно молить ускориться. сильнее. быстрее. сделай мне больно. потому что данте — весь, до последней дрожащей мысли, до последнего напряжённого вдоха — принадлежал ему. не потому, что теодор требовал, или брал, или хотя бы просил, — просто отдавать себя казалось столь же естественно как дышать, как знать заранее единственный верный ответ. как обещания на мизинцах, как философские разговоры по ночам, как пьяные рассветы на улицах под баром, как их инициалы рядом, вырезанные по дереву выкидным ножом тео, и шкатулки со всяким запретным барахлом, зарытые в сырой земле.
и как чувственные стихи, ложащиеся строчка за строчкой, ровными стежками, которые осарио когда-то стеснялся даже перечитать.
теодор разрывал поцелуй, наверное, лишь на секунды — чтобы посмотреть. чтобы видеть, как данте затаивает дыхание, как его щеки наливаются жаром, а губы блестят от влажности, приоткрытые, просящие. немного позже, он поймёт, что тео безумно нравится это выражение на его лице: размытое между желанием и смущением, растерянное, но не сопротивляющееся. нравится знать, что он может довести его до такого состояния. только он. когда тео обхватил ладонями лицо данте, подушечками пальцев чуть надавливая на скулы, будто пытался зафиксировать, удержать, тот едва сдержал стон. его глаза прищурились от слишком ярких ощущений. юноша втянул воздух сквозь зубы, когда тео легко провёл языком по бледной шее, прямо под челюстью, словно уже давно знал, как он там чувствителен. а потом — несколько секунд, ничего. лишь помутнённый взгляд снизу вверх, через пушистые, длинные ресницы, которыми осарио всегда любовался, сидя рядом на травологии, когда солнечные лучи заглядывали через окна, и падали тео прямо на переносицу. неудивительно, что данте часто приходилось пересдавать свои работы. у монтегю, конечно, всегда было «отлично» с первого раза.
словив взгляд с оттенком чистой, но тяжёлой привязанности, что пронзала куда больнее любого желания, данте почти сорвался, — ты… — не зная, как именно хотел продолжить. о чём-то спросить? поблагодарить? признаться? он запнулся, растеряв последние мысли, когда монтегю тихо усмехнулся и провёл ладонью по голой спине, забравшись под ткань теперь съехавшей и скомканной у талии рубашки, начал изучать изгиб позвоночника подушечками пальцев. данте не сдержал дрожь. его тело, обычно напряжённое и контролируемое, будто само сдавалось — предательски охотно, с пульсацией в висках и слабостью в коленях.
он обмяк в держащих его руках, и прижался лбом к щеке тео, глубоко вдыхая запах самого близкого человека — мягко-дымчатый, мускусный, с можжевеловым шлейфом от мыла, который парни в команде часто используют во время душа после тренировки. в запахе улавливалось и что-то пряное. уютное. привычное. живое.
данте дважды останавливался перед тем, как позволил себе нарушить правила, усомниться в них, перечеркнуть и выбросить. прежде, чем положить ладонь на грудь монтегю, чувствуя, как быстро там стучит сердце. в том же ритме, что и его собственное.
когда однажды тео спросит, зачем данте так долго молчал, сдерживался, почему страдал, неся бремя «неразделенной любви» в одиночестве — осарио задумается, но не сможет дать чёткий ответ.
«секрет — не исповедь. если уж носишь в себе — унеси с собой в могилу.» секреты для фоссетов всегда были оружием, доверие — уязвимостью, правда — причиной для наказания, если раскроется. секрет — это то, что, сцепив челюсти, прячешь под языком, даже когда умираешь. особенно, тогда.
— я ещё не знал, как. — как сильно могу любить. сильнее, чем бояться. — наверное, сам не до конца понимал.
«тайна, однажды высказанная, перестаёт быть твоей. в этой семье грех не в том, что врёшь — а в том, что проговариваешься.»
грех.
но ведь это никогда не было порочно.
если для кого-то подобного рода зависимость от любви и оказывалась погибелью
то для данте
это стало
его
спасением.
***
«mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa», — три удара в грудь, сжимая кулак, ты лишь рвёшь свою душу, дорогая. о, моя величайшая вина, — я схороню тебя в январе,
под инеем и сухими слезами.
 она никогда никому не признается, но она ненавидит оставаться одна в огромном особняке на чёртовом утёсе. она вечно обставляет дом мебелью, приводит декораторов, дизайнеров, заказчиков, или просто людей, которые заберут или привезут какие-то вещи. и на всё у неё всегда есть объяснения, и даже нервный эдвард лишь молча наблюдает, — или стерпит любое безумие жены, или проигнорирует, принимая должным, что контролировать всё до последней мелочи — главное хобби этой женщины.
она никогда никому не признается, но она ненавидит оставаться одна в огромном особняке на чёртовом утёсе. она вечно обставляет дом мебелью, приводит декораторов, дизайнеров, заказчиков, или просто людей, которые заберут или привезут какие-то вещи. и на всё у неё всегда есть объяснения, и даже нервный эдвард лишь молча наблюдает, — или стерпит любое безумие жены, или проигнорирует, принимая должным, что контролировать всё до последней мелочи — главное хобби этой женщины.
 но ещё больше она ненавидит оставаться одна по ночам. тогда дом кажется слишком огромным, слишком тихим, стены слишком тонкими, словно всегда слушают. ждут. следят. по ночам камилла слышит сотни осуждающих голосов в голове, под обоями и полами. по ночам её разрывает от глухой, болезненной, ненависти. она держала с собой киару почти всегда, порой назойливо, тревожно, почти с мольбой, она хватала и данте за руки, преграждала путь, придумывала наказания, чтобы оставить при себе. но если тот не был в школе, то, как обычно, сбегал. конечно, он сбегал. эгоистичный паршивец. вдруг, где-то там, за пределами мэрлоу, прямо сейчас совершает ошибку? позорит семейное имя? позорит и презирает собственную мать? за подобное непослушание камиллу бы высекли и морили голодом, держа в клетке как пса минимум с месяц. она милосердна к своим детям, а они — неблагодарны.
но ещё больше она ненавидит оставаться одна по ночам. тогда дом кажется слишком огромным, слишком тихим, стены слишком тонкими, словно всегда слушают. ждут. следят. по ночам камилла слышит сотни осуждающих голосов в голове, под обоями и полами. по ночам её разрывает от глухой, болезненной, ненависти. она держала с собой киару почти всегда, порой назойливо, тревожно, почти с мольбой, она хватала и данте за руки, преграждала путь, придумывала наказания, чтобы оставить при себе. но если тот не был в школе, то, как обычно, сбегал. конечно, он сбегал. эгоистичный паршивец. вдруг, где-то там, за пределами мэрлоу, прямо сейчас совершает ошибку? позорит семейное имя? позорит и презирает собственную мать? за подобное непослушание камиллу бы высекли и морили голодом, держа в клетке как пса минимум с месяц. она милосердна к своим детям, а они — неблагодарны.
 на ум пришла селеста, — её свадьба состоится через несколько дней. камилла устраивала этот брак осторожно, как будто подбирала лекарство. генри был простым, не слишком любопытным. камилла говорила себе: «это правильно. это — безопасно», словно отдавая дочь в руки живого призрака сантино — мягкое напоминание о том, как выглядит нежность. но что-то плохое всегда происходит за несколько дней… камилле очень нужно уснуть, чтобы не сойти с ума, поэтому, вновь травяное зелье пузырилось на огне с мягким свистом. настойка для спокойствия и сна размешивалась по часовой стрелке в чугунной чаше, точно по памяти, без нужды проверять рецепт. женщина уже и не помнила, зачем впервые сварила зелье — от бессонницы, от боли в груди, чтобы забывать, или чтобы не чувствовать. переливая тягучую жидкость в тонкий флакон, даже не скривилась, хотя запах по обыкновению немного жёг слизистую. плутая коридорами в темноте, она осмотрела давно пустующую комнату селесты, не понимая, что чувствует: тоску или радость, что её здесь нет. уходя, мелькнула отражением в зеркале: на предмет во весь рост, что остался после дочери, покупатель так и не нашёлся. как удар током, что-то вдруг отозвалось под кожей. крупицы памяти, что сработала на запах пыли и сырости, на жест — рука, поднесенная к горлу, на пустоту вокруг. тогда, в том доме тоже стояло зеркало. другое, дешёвое, старое, и пахло там воском и ладаном. она знала, что не должна приходить, но интерес взял верх. временное помешательство, возможно? тётя-целительница всегда говорила, что «дьявольский мост» отделяет их от магглов. чёртово любопытство поманило на другую сторону. стоило слушать родителей, когда те твердили: любое нарушение обернётся расплатой. но разве за подростковый бунт цены бывают столь высоки?
на ум пришла селеста, — её свадьба состоится через несколько дней. камилла устраивала этот брак осторожно, как будто подбирала лекарство. генри был простым, не слишком любопытным. камилла говорила себе: «это правильно. это — безопасно», словно отдавая дочь в руки живого призрака сантино — мягкое напоминание о том, как выглядит нежность. но что-то плохое всегда происходит за несколько дней… камилле очень нужно уснуть, чтобы не сойти с ума, поэтому, вновь травяное зелье пузырилось на огне с мягким свистом. настойка для спокойствия и сна размешивалась по часовой стрелке в чугунной чаше, точно по памяти, без нужды проверять рецепт. женщина уже и не помнила, зачем впервые сварила зелье — от бессонницы, от боли в груди, чтобы забывать, или чтобы не чувствовать. переливая тягучую жидкость в тонкий флакон, даже не скривилась, хотя запах по обыкновению немного жёг слизистую. плутая коридорами в темноте, она осмотрела давно пустующую комнату селесты, не понимая, что чувствует: тоску или радость, что её здесь нет. уходя, мелькнула отражением в зеркале: на предмет во весь рост, что остался после дочери, покупатель так и не нашёлся. как удар током, что-то вдруг отозвалось под кожей. крупицы памяти, что сработала на запах пыли и сырости, на жест — рука, поднесенная к горлу, на пустоту вокруг. тогда, в том доме тоже стояло зеркало. другое, дешёвое, старое, и пахло там воском и ладаном. она знала, что не должна приходить, но интерес взял верх. временное помешательство, возможно? тётя-целительница всегда говорила, что «дьявольский мост» отделяет их от магглов. чёртово любопытство поманило на другую сторону. стоило слушать родителей, когда те твердили: любое нарушение обернётся расплатой. но разве за подростковый бунт цены бывают столь высоки?
«никогда не видел таких красавиц. правду говорят. это магия..»
это же было святое место? он держал в кармане крестик.
«ты, ведьма, скажи, что раскаиваешься, — и тогда я очищу тебя.»
грубые руки. грязные ногти. исповедь, которую она не просила.
прижимая к груди разорванный воротник блузки, девушка шла домой босиком, всё ещё чувствуя спиной сбившееся дыхание. кровь засыхала на внутренней стороне бедер.
казалось, она достаточно заплатила.
шепот матери, осуждающий и гневный, резал сильнее любого заклинания. «ты не понимаешь, что ты натворила. ты всё испортишь. мы всё потеряем.» оказалась, цена была ещё выше. «пей, давай же. убей мерзость внутри себя, разберись с проблемой, выйди замуж за чистокровного младшего сантино верди, и унеси эту тайну с собой в могилу. ты должна.»
секрет камиллы складывал руки, держащие католические чётки, готовясь к последней вечерней молитве, и падал на колени пыльных полов храма, когда ему перерезали глотку. он закончил корчится, булькая кровью, — тогда под взмахами волшебной палочки тело разорвало на куски с ровными краями. каждая часть упала на дно реки, разделяющей их миры. последней стала цепочка с серебряным медальоном, которую она пропустила между пальцев, выпуская в воду. большой палец скользнул по гравировке последний раз: святая арабелла [молитва, которой отвечают], отцу от дочери.
 живое станет мёртвым, молодая волшебница очернит душу, а недоразвитые кости младенца превратятся в труху, закопанную в яме, в саду за фамильным поместьем.
живое станет мёртвым, молодая волшебница очернит душу, а недоразвитые кости младенца превратятся в труху, закопанную в яме, в саду за фамильным поместьем.
 и так, у камиллы лучии дель осарио, которая уже завтра выйдет замуж за любовь всей своей жизни и покинет отчий дом, внутри гниёт труп ужасной тайны, и именно поэтому перед свадьбой она не может уснуть, перебирая в голове воспоминания словно книги на библиотечных полках. для «общего пользования», «роман», «философия», «запретное», — у каждого события в её жизни обязательно должен быть раздел. но, что если, чему-то не место в голове вовсе? например, секрет, настолько кошмарный, — знай о нём избранник, на которого волшебница положила глаз ещё когда они оба были детьми, изучающими английский язык и заклинания с мисс клодетт, и несмотря на связавшее их обещание, вероятно, бросил бы невесту? отвратительный секрет, который лучше не знать, если хочется пожить немного дольше, — отличная мотивация, чтобы освоить окклюменцию. «и тогда я научилась прятать. прятать вещи настолько хорошо, что сама забывала, где именно оставила.»
и так, у камиллы лучии дель осарио, которая уже завтра выйдет замуж за любовь всей своей жизни и покинет отчий дом, внутри гниёт труп ужасной тайны, и именно поэтому перед свадьбой она не может уснуть, перебирая в голове воспоминания словно книги на библиотечных полках. для «общего пользования», «роман», «философия», «запретное», — у каждого события в её жизни обязательно должен быть раздел. но, что если, чему-то не место в голове вовсе? например, секрет, настолько кошмарный, — знай о нём избранник, на которого волшебница положила глаз ещё когда они оба были детьми, изучающими английский язык и заклинания с мисс клодетт, и несмотря на связавшее их обещание, вероятно, бросил бы невесту? отвратительный секрет, который лучше не знать, если хочется пожить немного дольше, — отличная мотивация, чтобы освоить окклюменцию. «и тогда я научилась прятать. прятать вещи настолько хорошо, что сама забывала, где именно оставила.»
 юная осарио сотрёт постыдную тайну, вину из собственной памяти; ни любовь, ни друг и второй муж, ни дети не узнают ошибок её молодости. «мне нужно исчезнуть, прежде чем исчезли те, кто меня ещё знал.» она попрощается с прошлым, противостоя холодному горному ветру, стоя на pontе del diavolo. «чёртов мост» городка чивидаль-дель-фриули на северо-востоке италии: для кого-то со временем останется лишь байкой о магах, или временной маггловской проблемой для других, а для камиллы — это история о том, что на другой стороне всегда ждёт монстр.
юная осарио сотрёт постыдную тайну, вину из собственной памяти; ни любовь, ни друг и второй муж, ни дети не узнают ошибок её молодости. «мне нужно исчезнуть, прежде чем исчезли те, кто меня ещё знал.» она попрощается с прошлым, противостоя холодному горному ветру, стоя на pontе del diavolo. «чёртов мост» городка чивидаль-дель-фриули на северо-востоке италии: для кого-то со временем останется лишь байкой о магах, или временной маггловской проблемой для других, а для камиллы — это история о том, что на другой стороне всегда ждёт монстр.
ты — мой неотвратимый рок, моя награда и расплата, ты — сердце, вырванное в срок, и возвращённое обратно.
 после свадьбы, камилла вложит всю страсть, преданность, всю себя — в любовь к мужчине, которого заполучила несмотря ни на что. она будет любима, ведь сделала всё правильно. она заслужила. камилла забудет, словно секрета никогда не было, позже очерствев настолько, что сумеет смириться и с потерей, когда любимый покинет её. даже не возненавидит за то, что сантино исчез из их с дочерью жизни столь внезапно, без предупреждений и прощаний, оставив одних в холодном дождливом лондоне. вскоре женщина примет любовь лучшего друга, эдварда. меньше чем через год она родит ему сына — данте, — настолько похожего на мать, что вторым именем мальчика станет «осарио», чем лишь подкрепит недоверие и ревностное отношение фоссета старшего. камилла определённо будет в порядке. однажды она передаст странную, безумную решительность младшей дочери. высечет из девочки идеальный образ, совершенство, и когда киара скажет, «но, мам, я хочу именно его. я выбрала его», — камилла сделает всё, чтобы дочь получила желаемое.
после свадьбы, камилла вложит всю страсть, преданность, всю себя — в любовь к мужчине, которого заполучила несмотря ни на что. она будет любима, ведь сделала всё правильно. она заслужила. камилла забудет, словно секрета никогда не было, позже очерствев настолько, что сумеет смириться и с потерей, когда любимый покинет её. даже не возненавидит за то, что сантино исчез из их с дочерью жизни столь внезапно, без предупреждений и прощаний, оставив одних в холодном дождливом лондоне. вскоре женщина примет любовь лучшего друга, эдварда. меньше чем через год она родит ему сына — данте, — настолько похожего на мать, что вторым именем мальчика станет «осарио», чем лишь подкрепит недоверие и ревностное отношение фоссета старшего. камилла определённо будет в порядке. однажды она передаст странную, безумную решительность младшей дочери. высечет из девочки идеальный образ, совершенство, и когда киара скажет, «но, мам, я хочу именно его. я выбрала его», — камилла сделает всё, чтобы дочь получила желаемое.
за окном раздался раскат первого осеннего грома. молния блеснула, отражаясь в стекле.
женщина резко моргнула. порыв ночного ветра вернул в беспамятство настоящего. пальцы сжали флакон, и он почти выскользнул. камилла застыла — на мгновение — а потом шагнула дальше по коридору, к своей спальне, как будто ничего не случилось.
как будто ничего не случилось.
***
«но если всё вокруг считать битвой, то когда-нибудь неизбежно придётся проиграть.»
— ты и я, данте, — женский голос напоминает шелест листьев, подхваченный весенним ветром: такой же спокойный, лёгкий и нежный; наверное, он поверит каждому слову, несмотря на предательский узел, скрутивший внутренности, — мы слишком похожи на неё. — селеста делает паузу, чтобы не выдать волнение, но успевает закончить мысль прежде, чем вместе они аппарируют к подножью скал. ведь ему пора домой. — а камилла ненавидит себя слишком сильно, чтобы позволить нам всем быть счастливыми.
селесте тоже нужно уходить. насовсем, теперь. зря она вообще вернулась, поддалась соблазну, — так хотелось в последний раз увидеть рыжие кудри, веснушки, и бордовые варежки, и почувствовать нежный поцелуй на щеке. последний раз посмеяться. попрощаться с ней. возможно, не будь столь опасно, селеста бы оставила брату это воспоминание: их встречу на улице между кофейным киоском и магическим антикварным магазином дорчестера. она знала, данте бы понял, не осудил, селеста бы хотела, чтобы он хоть раз увидел её счастливой. настоящей. но девушка не позволила задать ни одного вопроса, и сама не спросила, зачем он здесь, что-то купил, или, наоборот, продал? рука легла юноше на плечо, лёгкий толчок — и они исчезли из города.
«кто…» растерянный данте попятился — и в тот же момент сестра подняла глаза. секунда. не больше. она подалась вперёд и уже через миг оказалась перед ним. хватка — как у матери: быстрая, уверенная, с отчаянием. — однажды ты поймешь, — пока осарио не успел догадаться, селеста ловко достала палочку из-за ворота пальто, — может, когда-нибудь, я расскажу тебе сама, но сейчас…
 прости меня.
прости меня.
 «обливиэйт». заклинание — лёгкое, как сон. всё, что осталось — лёгкий привкус железа на языке. он моргнул. почувствовал привычный холод дома. не заметил, когда вернулся. переступил через порог и столкнулся с матерью в холле.
«обливиэйт». заклинание — лёгкое, как сон. всё, что осталось — лёгкий привкус железа на языке. он моргнул. почувствовал привычный холод дома. не заметил, когда вернулся. переступил через порог и столкнулся с матерью в холле.
 — ты ещё здесь, — женщина сухо констатировала факт, — думала, ты уже в поезде на хогвартс.
— ты ещё здесь, — женщина сухо констатировала факт, — думала, ты уже в поезде на хогвартс.
 данте хлопнул глазами, — я собирался, но, — он запнулся, его билет был на завтра, но хотелось сбежать из плена фамильного дома раньше ...вспышка — каменная тропа у замёрзшего обрыва, голос: «ты не видел ничего, данте» — и лёгкий щелчок, как оборванная нить. — забыл кое-что. уеду утром.
данте хлопнул глазами, — я собирался, но, — он запнулся, его билет был на завтра, но хотелось сбежать из плена фамильного дома раньше ...вспышка — каменная тропа у замёрзшего обрыва, голос: «ты не видел ничего, данте» — и лёгкий щелчок, как оборванная нить. — забыл кое-что. уеду утром.
 камилла недоверчиво сузила глаза, словно размышляла, поверить сыну или нет. — ладно. ещё увидимся перед твоим отъездом.
камилла недоверчиво сузила глаза, словно размышляла, поверить сыну или нет. — ладно. ещё увидимся перед твоим отъездом.
 кстати.
кстати.
 селеста вышла замуж.
селеста вышла замуж.
 селеста. данте никогда не видел, как она смеялась, но почему-то вдруг отчётливо услышал в голове смех сестры, похожий на звон колокольчиков, что обычно висят над входом в магазин.
селеста. данте никогда не видел, как она смеялась, но почему-то вдруг отчётливо услышал в голове смех сестры, похожий на звон колокольчиков, что обычно висят над входом в магазин.
два дня спустя данте, как и говорил матери, прибыл в хогвартс. он сразу рассказал новость теодору, когда тот спросил «что с лицом?», ещё в поезде, не проехавшем и часа. взгляд блуждал, данте хотел сказать: «ты бы заметил, если бы я забыл что-то важное, да?» но итогом буркнул лишь — «это всё так странно. я ни разу даже не видел этого хрена генри.» дальше в тему они не углублялись: казалось бессмысленным, или же наоборот, чем-то слишком сложным. осарио решил переварить мысли молча, монтегю ни на чём не настаивал, возможно, понимая всё без слов.
пока что переварить удалось не до конца. может, к вечеру. пока что данте шёл на тренировку по квиддичу, и снег под ногами скрипел, будто шептал: вспомни, вспомни, — но память не отзывалась. раздражало. были только обрывки: мёрзлые пальцы, серое небо над маленьким городом, выцветшая вывеска, металлический привкус во рту, — может, от того, что он прикусил губу, или?
все товарищи по команде собрались на поле, и пока данте на время не увлёкся игрой благодаря им, никак не мог перестать думать: почему между снежинками, падающими на чей-то мех капюшона и коридорами поместья фоссетов ничего нет.
порой, самоуверенный и с виду совершенно невозмутимый данте осарио фоссет ощущал себя крайне беспомощным: в те самые моменты, когда вселенная давала трещину прямо за спиной, стоило только отвернуться на секунду. и если это происходило по причине, которую он не понимал, или был слишком юн, чтобы понять, — начинал беситься, или откладывал переживания на будущее, где они неизбежно настигали панической атакой. ему не нравилось оставаться в неведении. но ведь ничего такого не произошло? новости о свадьбе сестры не потрясли, нет, селеста ушла от них давно, ещё в свои двадцать, после стажировки; она не хлопнула дверью, просто ушла — как всегда умела: с прямой спиной, горделивым выражением лица и небольшим чемоданом, в который поместилось всё ею нажитое, всё, кроме ненависти. её она оставила утёсу мэрлоу. и не так уж странно было услышать предупредительную угрозу матери напоследок, «не стоит вам больше видеться», странным было то, что данте не знал, что именно потерял. он лишь чувствовал это нутром — что-то выпало из него, как зуб, оставив пустую лунку, в которую, забываясь, постоянно попадал язык. тело казалось слишком тяжёлым, мысли текли медленно. как будто кто-то вырезал из его сознания час или два, оставив сшитый шов, и анестезия пока не прошла.
чувствовал осарио себя откровенно паршиво, и потому сегодня всё валилось из рук. ему казалось тренировка прошла гораздо хуже, чем могла. он, вроде бы, справлялся, со стороны совсем неплохо — ловкое уклонение, неплохой разворот, точная передача, скорость сносная. но не идеально. не так, как он умел, или знал, что может. точнее. ловчее. меньше думать. мышцы слушались с задержкой, движения были резче, чем нужно, а настроение — поистине сучье. слизеренец врезался в игру с яростью — так, словно можно было сбросить всё остальное с плеч, если просто лететь быстрее. данте удалось ни на кого не сорваться, сдержав всё в себе, но он то и дело раздражался: на ветер, метлу, квоффл и даже собственную тень. никто и слова не сказал, находясь в приподнятом настроении: и погода, и поле, выделенное только под слизеринскую команду, без фанатов, соперников, оценок или других лишних глаз, и общие успехи, — всё было отлично. по крайней мере, друзья старалась преподнести это именно так, а теодору в какой-то момент и вовсе действительно удалось отвлечь данте от водоворота мыслей. но к концу игры осарио сдрифтвовал прямо в трибуны, разогнавшись слишком сильно — ничего опасного — лишь удар по самооценке, и раздражение накрыло снова.
никто не пошёл за ним, когда охотник спрыгнул с метлы, злобно перехватил её в воздухе рукой, и молча удалился с поля. фоссет не обернулся, и не увидел как монтегю выставил руку вперёд, и отрицательно помотал головой питеру, эдвину, ризу, и остальным парням, словно говоря: «не стоит. я сам. дайте нам немного времени», но сперва тот решил дать время другу, увлекая сокомандников в разговор о стратегии на будущую игру.
данте едва переступил порог раздевалки, — а перчатки уже злобно полетели на скамью. дальше с каким-то несвойственным ему остервенением парень скинул с себя мантию и налокотники, стянул свитер, швыряя одежду вниз не глядя, цепляя волосы. остался в футболке, — злой, уставший, дрожащий изнутри — его лёгкие словно сдавило, а сердцебиение участилось, и совсем не в воодушевлении. запах поля, древесины, ветра и разогретых тел — ещё висел в воздухе, отвлекая, успокаивая. осарио медленно выдохнул, прижимая ровную спину к стене, чувствуя лопатками холод камня. данте почти расслабился, подумывая вернуться на поле к тео, но, услышав из коридора, связывающего спортивную зону с основным замком, голоса, замер на месте. «кажется, я видела его.» «уверена?» «пойдем за ним?» «может, в другой раз?» «думаешь, теодор тоже там?» — девичьи возгласы каждый раз доводили фоссета до головной боли. чёрт возьми, как им не надоедает. данте бесшумного выдохнул. не хватало только взаимодействия с дурочками для довершения ахуительно прекрасного дня. он затаился за дверью, зарывшись в тень, склонив голову, девчачий шёпот был визгливым даже в приглушённой версии. пока две обладательницы высоких голосов ещё не осмелели приблизиться, осарио стал медленно, стараясь не издавать ни звука, собирать вещи и переодеваться. рубашка была небрежно накинута на голый торс, волосы спутаны после полётов, а виски пульсировали от скорости и адреналина, когда он заметил монтегю. друг шёл к нему со стороны того же выхода на поле, откуда ворвался данте. тео подошёл совсем близко, карие глаза блестели после тренировки и зимнего воздуха. не зная, что за дверью поджидают обожательницы с подарками, он бы выдал их тотчас. они оба стояли слишком близко к коридору.
— слушай, да.., — теодор не успел договорить имя. данте сделал испуганный шаг, подошёл вплотную, и не раздумывая накрыл рот монтегю своей ладонью. глаза к глазам. близко. слишком. они стояли так, затаившись, и данте чувствовал, как тео дышит под его ладонью. как не отступает. как спокойно смотрит на него, возможно, в лёгком замешательстве, но с плескающимся весельем во взгляде.
шорох — и снова смешки. взволнованные.
«ты видела, как он держал метлу?» «а теодор, у него такие руки, плечи, такая осанка».
тео едва не рассмеялся прямо в сдерживающую от реакции ладонь.
— ш-ш-ш, — только и прошипел данте, придвинувшись ближе, сгибая руку в локте, чтобы получше слышать происходящее за стеной, разобрать слова девочек, и узнать, собираются ли они уходить. за углом раздался тонкий смех, приглушённый шёпот. «может, подождём ещё? кто-то из них точно скоро выйдет…» становилось тяжелее соображать — дыхание тео — горячее, цепкое, билось сквозь пальцы данте. парень склонился ближе, плечом чуть касаясь монтегю — будто случайно. он слушал — ухо к открытому проёму, голова чуть наклонена, рука по-прежнему прижата к чужому лицу. и тео молчал, замерев. ближе. теплее. тише. неизбежная встреча взглядов. данте не отстранился. не сразу. продолжая смотреть — будто хотел сказать больше, чем просто «помолчи». ладонь всё ещё на губах. данте чувствует их — мягкость, сухое тепло. чувствует, как тео чуть сдвинул челюсть, едва заметно, будто пробуя, — какого это, быть вот так пойманным. а сам данте, затаив дыхание, ощутил, как в теле начинало пульсировать нечто тяжелое, низкое, тянущее.
вдруг, подозрительная тишина, — прервалась голосом старосты — двум любителям навести суеты тот был знаком очень хорошо. — эй, вы! это закрытая тренировка, расходитесь. выше вероятность, что они влюблены в друг друга, чем в вас, — старший слизеренец точно хотел унизить непосредственно глупых девиц с другого факультета, грубо намекая, что они, недостаточно хороши для звёздных студентов, но данте слегка напрягся, опустил взгляд, однако, не отступал. лишь молчаливо ожидал, пока шаги не утихнут. сухой сарказм и жесткость в тоне распугали фанаток почти мгновенно. когда угроза стопроцентно осталась позади, данте резко отдёрнул руку, будто обжёгся о собственное желание, сделал пару шагов назад, и почти сразу заговорил, стараясь быть непринуждённым, нейтральным, опередить теодора в мыслях:
— достали, — выдохнул, уверенно делая вид, что забыл что-то в шкафчике. — везде нас найдут, эти фанатки. конфеты, письма, коробочки, вязанный шарф, где вышито имя через сердце, кринж, — его натурально, довольно забавно передёрнуло, он сморщил лицо в брезгливой, неловкой полуулыбке, больше походящей на оскал. тео чуть склонил голову и усмехнулся, как всегда, когда настроение было приподнятым — расслабленно, с долей весёлой дерзости. напряжение внутри данте потихоньку сходило. он развернулся спиной, открыл перед собой дверцу. и на него тут же вывалился пакет, похожий на подарочный, усыпающий, падая, всё вокруг блёстками, мелкими бумажками, и самого данте, с головы до ног. — это ещё что за херня!
теодор звонко засмеялся, беззлобно, заражая чистейшим наслаждением от абсурда и комичности ситуации, и данте быстро подхватил этот настрой, прыснув смешком. пока осарио очищался от блёсток, тео поднял с пола пакет, по-хозяйски развернул подарок, и заглянул в коробочку. фоссет подал голос: — опять любовные зелья в шоколаде, или браслетики с сердечками?
— любопытнее, — теодор поднял скромную коробочку с весьма недешёвым содержимым на свет. стекло с застывшим пламенем внутри. интересный материал, и, пламя, кажется, не совсем обычное. запонки. из коробки доставать не стал, руками не трогал, только смотрел, сощуривая правый глаз, всё-таки, сперва нужно проверить. они оба всегда очень осторожны с любыми подарками. но, судя по его лицу, — а в таких вещах монтегю знал толк, — предмет имел потенциал. данте всегда восхищал талант друга: замечать или создавать красивые вещи. — возможно, зачаровано.
 данте равнодушно пожал плечами.
данте равнодушно пожал плечами.
 — оставишь себе? — осарио не впечатляли любого рода подарки, однако, он не злился и не расстраивался, если друг решал что-то прикарманить.
— оставишь себе? — осарио не впечатляли любого рода подарки, однако, он не злился и не расстраивался, если друг решал что-то прикарманить.
 — нет. продадим. может галлеонов пятнадцать, если повезёт. «небольшой вклад в наше будущее», — он говорил так просто, обыденно, а сердце данте почему-то вдруг перевернулось и пропустило удар, кончики пальцев едва заметно дёрнулись. виду он не подал, лишь сглотнул, поднял уже собранную сумку с вещами, которые разбросал ранее, закинул на плечо. кажется, данте снова вернулся к привычному себе. кажется, он снова был в порядке.
— нет. продадим. может галлеонов пятнадцать, если повезёт. «небольшой вклад в наше будущее», — он говорил так просто, обыденно, а сердце данте почему-то вдруг перевернулось и пропустило удар, кончики пальцев едва заметно дёрнулись. виду он не подал, лишь сглотнул, поднял уже собранную сумку с вещами, которые разбросал ранее, закинул на плечо. кажется, данте снова вернулся к привычному себе. кажется, он снова был в порядке.
 заметно повеселев, осарио поддержал идею:
заметно повеселев, осарио поддержал идею:
 — тогда, начинай думать, как нам ускользнуть в хогсмид, монтегю.
— тогда, начинай думать, как нам ускользнуть в хогсмид, монтегю.
он быстро внушил себе, что тео ничего не заметил. что не было ничего необычного в ладони на губах, ни взглядов, слишком долгих, чтобы быть случайными. просто виноваты фанатки.
просто очередная вещица.
просто день после тренировки.
— мне нужно отправить письмо, и я присоединюсь к тебе, — данте широко улыбался.
 увидимся немного позже, ладно?
увидимся немного позже, ладно?
***
данте вроде уже не маленький, и всё не должно быть так сложно, но, кажется, это вновь произошло: вселенная взялась трещинами, а он не понимал, почему. странное ощущение, словно упущено что-то важное для общего понимания сути. снова. для понимания собственных чувств. о как бы он хотел знать, почему смотрит на лучшего друга с замиранием сердца? почему имя теодора приходит на ум, когда он читает сборники со стихами, почему порой он слишком долго засматривается на его губы? как с этим быть? и, почему, чёрт возьми, так злит, когда к монтегю проявляют такое внимание. девушки, особенно. бросающиеся на шею навязчивые прилипалы, оставляющие багровеющие следы от помады на щеках или воротнике рубашки — да, происходит случайно, — но тем не менее: наблюдая, внутри царапалась когтями обида. ревность, вероятно, это всё же ревность — она застилала глаза — данте в упор не видел, не слышал ни обожающих речей, ни взглядов или касаний в свой адрес, игнорировал, сбегал. осарио даже не смог сегодня поддержать друга наравне со всеми, ведь начинал раздражаться и портить весь вайб. казалось, теодор полностью растворился в любви окружающих, и не замечал угрюмости данте, а может, просто лучше других знал: ну, вот такой осарио, меланхоличный паршивец, ничего не поделать, «люблю его и таким».
может в следующий раз стоит дать соперникам на поле победить, чтобы все не сходили с ума? — празднование по мнению осарио сильно затянулось, — спиртовой напиток горел в горле, в лёгких, суета и радостные крики воровали из легких фоссета воздух. юный организм подсказывал, что выпитого количества огневиски из-под полы было более чем достаточно, дабы успешно почувствовать себя хреново, но не настолько, чтобы возыметь серьезные трудности с возвращением в школу. спокойно, не спеша, данте поднялся, и аккуратно взяв двумя пальцами уже протянутую кем-то сигарету, примостил самокрутку за ухом. по канону пьяных сборищ, выкурив по дороге, не заметил как проделал путь до хогвартса. коридоры подземелья слизерина встретили тишиной и полумраком, а камин в гостиной потрескивал ровно и уютно, привлекая своим спокойствием. данте обессилено рухнул на диван, вытянул ноги и достал блокнот.
чернила медленно ложились на бумагу под нажимом пера — он не столько писал, сколько позволял себе думать на странице. никакой темы, только фразы, обрывки мыслей, чужие имена, странные описания ощущений. почерк плясал в такт каминному огню. и когда я произнёс последние слова, они упали как камни в бездну, оставив во рту лишь горечь с привкусом полыни – напоминание о том, что не всё сказанное можно вернуть.
возможно, имея выбор, однажды, данте мог бы стать поэтом. что-то создать. несмотря на немногословность, складывать слова в красноречивые предложения на бумаге у него получалось хорошо. и ведь он любит читать, — тексты, наполненные эпитетами, метафорами, эмоциональные, цепляющие, — поглощая вместо вредного сладкого перед едой. матери не раз приходилось за ужином стучать окольцованными пальцами, сжатыми в кулак по столу из красного дерева, чтобы привлечь данте к ответу, или же заставить послушать. у камиллы было немного поводов обратиться к сыну. наверное, лишь селеста была единственной, кто точно знал о хобби брата — она всегда писала длинные письма, отправляла отрывки из полюбившихся собраний стихов, присылала блокноты, чернила, перья, подписывая страну происхождения на конвертах.
 но, что, если, убивал не секрет, а молчание.
но, что, если, убивал не секрет, а молчание.
 и говорить нужно было вслух.
и говорить нужно было вслух.
от размышлений оторвал резкий запах, появившийся словно из ниоткуда: миндаля, пота, полу выветрившегося морского парфюма, и алкоголя. слизеренец, годом старше, плюхнулся рядом, до неприличия близко, чем заставил данте поспешно спрятать блокнот с пером во внутренний карман пиджака, после бросить недовольный взгляд. задурманенный огневиски разум осарио не успел придумать колкость, не то что произнести вслух, — на колено парня вдруг легла рука, и нагло поднялась немного выше. данте опустил взгляд, чтобы проследить, а после снова поднял. чего-то ждал. объяснений? продолжения? он всё ещё думал о тео, и об улыбке друга, окружённой девушками после победы. о том, как монтегю принимал комплименты, не торопясь отстраняться сразу, позволял им касаться его формы, не более — к радости и спокойствию данте. теодор на большее почему-то никогда не подписывался добровольно, уклоняясь так же ловко, как от мячей в воздухе. мог дразнить, но никогда не давал. наверное, ему просто нравилось. быть в центре? быть красавцем для чужого глаза?
чёрт бы его побрал, теодор всегда красивый.
внезапная компания активно старалась привлечь внимание фоссета: — выпьешь? за победу? ты был хорош сегодня. — вторая рука, (стоп, ведь его зовут брэйди?) протянула флягу с интересным орнаментом, который данте почувствовал подушечками пальцев, приняв, и поднося к горлу, молча делая глоток. — я немного понаблюдал за тобой. как ты писал. ты чертовски красив, когда сосредоточен, — забирая алкоголь обратно, брэйди маклагген обвил тонкое запястье, и своей огромной рукой накрыл руку данте. осарио, понимая к чему всё идёт, чувствовал себя слишком уставшим и каким-то мерзким, чтобы отодвинуться. мулат, сверлящий его томным взглядом явно горел желанием, и, видимо, приняв не-совсем-отказ за согласие, поспешил придвинуться ближе, оставив мокрый поцелуй на бледной шее. фоссет без особенного энтузиазма ждал, что будет дальше, напряжение в нём нарастало, однако, неприятное. казалось, осарио вот-вот стошнит. рука с колена переместилась вверх, оглаживая внутреннюю сторону бедра, чужие пальцы нетерпеливо расстегнули ширинку, скользнули под резинку трусов, слегка приспуская, кольнули холодом, затем обожгли кожу, обхватили, сжали, опустились ниже, попытались набрать темп. данте вжался в спинку дивана, во рту пересохло. наверное, стоило просто потерпеть, и станет лучше. не каждый день ведь кто-то внезапно хочет тебе подрочить. заметив замешательство юноши, и отсутствие ответной реакции, маклагген прошептал фоссету на ухо: «просто представь вместо меня тео».
услышав имя друга, на долю секунды данте расслабился, но потом, осознавая происходящее, резко подорвался, — на его лице отразилось что-то вроде паники. отрицания. ужаса. отбрасывая от себя руки брэйди, и, не говоря ни слова, молодой человек поспешно взбежал по ступенькам, и заперся в спальне. уже там, плюхнулся на свою кровать животом вниз, перед этим запульнув куда-то ботинки, и сняв только верхнюю одежду. данте положил подушку прямо себе на голову, прижимая наволочку за края, натягивая их вниз до побелевших костяшек, и громко, гортанно взвыл, срываясь на какой-то отчаянный животный рык.
год спустя, больничное крыло хогвартса
«нравлюсь?» только монтегю каким-то магическим образом умудрялся выглядеть горячо весь перемотанный и разбитый. казалось, это хитрое и чертовски привлекательное личико невозможно испортить. и всё же, на физиономии данте, вероятно, беспокойство читалось слишком явно. тем более, если скользил изучающим взглядом именно теодор, человек, который знал осарио лучше него самого, и мог прочесть любую эмоцию, любую мысль даже одним невооружённым глазом.
 — повезло, что на первом месте для меня душа, — данте не хотелось акцентировать внимание на чём-то одном из всего набора полученных монтегю увечий. чтобы пациент поменьше вспоминал о том, что сейчас болело больше всего. а ещё осарио не имел особого опыта в утешениях или поддержке, но, когда дело касалось теодора он искренне был готов хотя бы не усугублять. поэтому юноша придвинулся немного ближе, со всей бережностью на которую был способен, положил свои руки парню на плечи, огладил их со столь знакомой им обоим лаской, нежно и медленно очертил напряжённую от боли и гнева шею, поднялся выше, заправил кудрявую прядь за ухо, которая тут же выбилась. тонкие, как для мальчика, пальцы осарио старались быть невесомыми, но не могли противиться желанию касаться. снова и снова. конечно, дурак, нравишься. я люблю..
— повезло, что на первом месте для меня душа, — данте не хотелось акцентировать внимание на чём-то одном из всего набора полученных монтегю увечий. чтобы пациент поменьше вспоминал о том, что сейчас болело больше всего. а ещё осарио не имел особого опыта в утешениях или поддержке, но, когда дело касалось теодора он искренне был готов хотя бы не усугублять. поэтому юноша придвинулся немного ближе, со всей бережностью на которую был способен, положил свои руки парню на плечи, огладил их со столь знакомой им обоим лаской, нежно и медленно очертил напряжённую от боли и гнева шею, поднялся выше, заправил кудрявую прядь за ухо, которая тут же выбилась. тонкие, как для мальчика, пальцы осарио старались быть невесомыми, но не могли противиться желанию касаться. снова и снова. конечно, дурак, нравишься. я люблю..
 — нравишься, — отчетливо прозвучало между поцелуями, удивительно, казалось, ему не хватит воздуха. тон данте сменился, став серьёзным — теперь он отвечал чувствами и ощущениями, и железный привкус во рту напомнил, что осарио был в этом не один: их разделяли.
— нравишься, — отчетливо прозвучало между поцелуями, удивительно, казалось, ему не хватит воздуха. тон данте сменился, став серьёзным — теперь он отвечал чувствами и ощущениями, и железный привкус во рту напомнил, что осарио был в этом не один: их разделяли.
 — мы его уничтожим, — коротко, едва слышно, но ёмко, чертовски решительно, так, что мысль усомниться не придёт в голову, прошептал данте на ухо своему парню, отодвигаясь после очередного нежного поцелуя неспешно, аккуратно, чтобы никуда случайно не надавить, не причинить боли. поцелуя, в который осарио постарался вложить всю заботу, поддержку, и любовь, что даже в такие моменты переполняла чашу внутренних весов. скрепив своё обещание прикосновением губ, подросток немного успокоился. иначе, о, мерлин, он сам готов был разбить кулаки в кровь — одного только взгляда на перемотанное бинтами лицо теодора хватало, чтобы затеять драку. тео он позволить сорваться не мог, — по крайней мере, пусть сначала заживёт рука, — поэтому когда монтегю, подобно злобному, но уставшему псу, буркнул «хочу его ударить» данте с опаской накрыл предплечье раненного ладонью, чтобы успокоить или, если придется, сдержать. не отпуская руки, под протяжные недовольные ну-хватит-уже-сосаться-вы-достали-стоны и закатывающиеся глаза сокомандников, данте развернулся к ним полубоком, показав средний палец. затем, вновь повернулся лицом к теодору, перетягивая на себя всё его внимание. глаза осарио, наверняка блестели счастьем, несмотря на ситуацию. казалось, они встречались уже приличный период времени, — в хогвартсе, вероятно, не осталось ни одной комнаты, ни одного помещения и угла, где бы они ни обжимались хотя бы пару минут, — но, до сих пор, данте иногда рассматривал лицо теодора, и не мог поверить, что больше не должен сдерживаться. что может касаться, целовать, любить.
— мы его уничтожим, — коротко, едва слышно, но ёмко, чертовски решительно, так, что мысль усомниться не придёт в голову, прошептал данте на ухо своему парню, отодвигаясь после очередного нежного поцелуя неспешно, аккуратно, чтобы никуда случайно не надавить, не причинить боли. поцелуя, в который осарио постарался вложить всю заботу, поддержку, и любовь, что даже в такие моменты переполняла чашу внутренних весов. скрепив своё обещание прикосновением губ, подросток немного успокоился. иначе, о, мерлин, он сам готов был разбить кулаки в кровь — одного только взгляда на перемотанное бинтами лицо теодора хватало, чтобы затеять драку. тео он позволить сорваться не мог, — по крайней мере, пусть сначала заживёт рука, — поэтому когда монтегю, подобно злобному, но уставшему псу, буркнул «хочу его ударить» данте с опаской накрыл предплечье раненного ладонью, чтобы успокоить или, если придется, сдержать. не отпуская руки, под протяжные недовольные ну-хватит-уже-сосаться-вы-достали-стоны и закатывающиеся глаза сокомандников, данте развернулся к ним полубоком, показав средний палец. затем, вновь повернулся лицом к теодору, перетягивая на себя всё его внимание. глаза осарио, наверняка блестели счастьем, несмотря на ситуацию. казалось, они встречались уже приличный период времени, — в хогвартсе, вероятно, не осталось ни одной комнаты, ни одного помещения и угла, где бы они ни обжимались хотя бы пару минут, — но, до сих пор, данте иногда рассматривал лицо теодора, и не мог поверить, что больше не должен сдерживаться. что может касаться, целовать, любить.
 — к счастью, твоя милая мордашка скоро будет в порядке. — следом ещё несколько коротких, легких движений, — поправить бинты, скрывающие половину той самой мордашки, случайно коснуться мизинцем брови, и попробовать расправить складку на лбу подушечками пальцев.
— к счастью, твоя милая мордашка скоро будет в порядке. — следом ещё несколько коротких, легких движений, — поправить бинты, скрывающие половину той самой мордашки, случайно коснуться мизинцем брови, и попробовать расправить складку на лбу подушечками пальцев.
на талию легла тёплая рука, так правильно, будто ей всегда было там место.
«никакого чемпионата мира по квиддичу?» эдвин всё продолжал бросать эти бесячие виноватые взгляды, будто его «прости» могло вернуть другу карьеру, и, данте, не выдержав, развернулся на своём стуле, и яростно ударил ботинком по железному пруту соседней кровати максвелла, — хэй, это всё ты виноват, — злость смешалась с переживаниями, и вылилась из осарио волной нервоза, — так что не корчи тут жалобные морды, страдалец. если не знал, мозгом можно пользоваться.
монтегю получил травму, которая разбивала сердце осарио, а в моменте, когда всё происходило, едва не довела до мощнейшей панической атаки на его памяти. хоть худшего не произошло, — данте прекрасно знал, с какой скоростью летают мячи на поле, и какую высоту мог набирать теодор, — страх тоже отступил, но злость, о, злость и обида остались. осарио словно доверил кому-то самое сокровенное только, чтобы увидеть, как это не сохранили в целости. уронили. разбили. сломали. осарио до сих пор мог видеть перед собой ту страшную картину, и вновь ощутить как с каждым ударом теодора по лицу эдвина становится тяжелее дышать, словно воздух выбивали из него тоже. и если так себя чувствовал данте, — можно было только предположить, как паршиво себя чувствовал сам спортсмен. бывший.
блядь. сука.
пылкие глаза итальянца сверкнули гневом и жаждой мести.
настоящее, особняк семьи фоссет
отчего-то именно сегодняшний вечер напомнил данте о тех днях в хогвартсе, когда теодор получил травму, и их вынужденную разлуку, что казалась невыносимо долгой, хотя никто из окружающих никогда бы не назвал несколько часов вне компании друг друга «разлукой». вспомнилась и проведённая вместе жаркая ночь: тео, только вернувшийся из больничного крыла, его ласки и желание, которое не в силах была одолеть даже дичайшая усталость. данте помнил, как дрожал всем телом, впивался ногтями в простыни, подушки, спину тео, как принимал в себя его полностью, как их стоны и дыхание синхронизировались, нарастая, учащались. данте помнил момент, когда они замерли, кончая почти одновременно, и как после осталась лишь приятная нега бессилия. тот день, наконец, остался позади. фоссет любовался чертами лица друга, осматривал его, и помнил, помнил, помнил. возможно, причиной нахлынувших воспоминаний — те самые «боевые» ранения — вновь, здесь, на любимом обожаемом лице. возможно, именно они ненадолго отправили осарио в прошлое. к моменту, когда маскировочное заклятие спало впервые, и данте смог впервые рассмотреть все появившиеся татуировки на теле друга. к моменту, когда он зачарованно разглядывал каждую, пытаясь запечатлеть их в памяти, и спросил его, «может мне тоже набить? о, или хотя бы пирсинг», на последних словах смеясь, и забавно тыча пальцем в рот, неуверенный в правильности произнесенного слова, потому решивший показать наглядно. ну, знаешь, как тот пирсинг, что сводит меня с ума каждый раз, когда ты целуешь меня. какой бы подошёл мне?
находясь так близко к возлюбленному, и вдыхая запах сигарет, оставшийся в каштановых волосах, когда нос оказался рядом у виска во время объятий, он вспомнил прожитые переживания, злость, беспокойство и облегчение, которое испытал, почувствовав спиной тепло груди монтегю. ведь ночи без него рядом всегда были такими холодными. дни без него были какими-то пустыми, — данте обычно проводил их рисуя, или записывая что-то в блокноте, или думая о том, как бы хотел быть сейчас рядом с тео. и вот они стояли так близко, до сих пор, вместе, всегда, уже с абсолютной уверенностью, что это никогда не изменится, их отношения со временем становились только прочнее, глубже, чувственнее, они — друг для друга, они — справятся со всем, что ждёт впереди. «не оставляй» — теодор смотрел, и данте чувствовал: его раздевают, его читают, его хотят. а он — словно всю жизнь был готов раствориться только в этом взгляде. лечь под него, подчиниться, целовать до потери сознания. тепло объятий теодора согрело данте изнутри, а фраза, заканчивающаяся словами «только для тебя» пробрала до мурашек. он заметно вздрогнул. осарио не мог вспомнить, чтобы кто-то говорил ему нечто подобное. у данте была семья, но, казалось, кроме теодора он больше никому не нужен, словно его подбрасывали и лениво пинали, как мячик — от одного холодного и тёмного угла к другому.
ладонь горела. тепло щеки теодора согревало изнутри. хотелось прижаться ещё сильнее, но данте слушал рассказ о происхождении ссадин и произошедшем внимательно, ловя каждое слово, стараясь нарисовать в голове всех людей и декорации, и оставить в памяти все детали, хоть и не мог не позволить себе мимолётные прикосновения. и даже слова тео о том, что это слегка отвлекает не сумели ни пристыдить его, ни остановить. ну, он, правда, попытался это сделать, но не был уверен, что вышло. порой, он чувствовал себя настолько расслабленно рядом с монтегю, что забывал о контроле. осарио уже не мог с этим справиться: это напоминало восполнение давней нехватки — как будто голод, сдерживаемый слишком долго. он так часто находился на грани, запрещая себе то, чего жаждал, отказывал в неисчислимом количестве попыток, что теперь всё воспринималось возвращением некого долга, возмещением утерянного. на запретном слове «измена» данте заметно нахмурился, сдвинув густые брови, но не от того, что задумался о том, какого мнения, оказывается, о них ларри, — на него было откровенно плевать, а потому что разозлился. на идиотов, что мелят хуйню не думая, на их обстоятельства, на всё, что причиняло теодору страдания и боль. — полагаю, ларри выглядит куда хуже. — выслушав тео, подытожил данте, по-кошачьи заглядывая в глаза, пытаясь утешить, отвлечь от мрачных мыслей, зная наверняка, что те или копошатся в голове монтегю, или пытаются туда прорваться. осарио огладил плечи своего любимого драчуна, огладил шею обеими руками с двух сторон, поднимаясь к ушам, и остановился: с пальцами на висках, ласково зарываясь ногтями в волосы, приглаживая пряди большими пальцами. данте пытался убаюкать его злость. — в следующий раз стоит нам пойти вместе, — хитрая полуулыбка заиграла на губах.
больше он не смог ничего добавить, не смог найти подходящих слов, лишь поблагодарил за то, что монтегю поделился с ним. данте оторвал взгляд от родных глаз только чтобы проследить за тем, как губы теодора коснулись его костяшек с такой нежностью, что от этого защемило сердце, а непреодолимое желание прильнуть к нему снова поднялось внутри. какое-то время они просто молча стояли, пока в этот раз их молчаливые переглядки не прервал первым тео, соединив их запахи, вкусы, и скрепив тела.
чувственные, нетерпеливые поцелуи и настойчивые движения рук распалили их обоих до предела. осарио чувствовал голод любимого человека так же отчётливо, как свой: он жадно желал вновь припасть к раскрасневшимся от поцелуев губам. он потёрся пахом о бёдра, которые подались навстречу его разгорячённому, пульсирующему от возбуждения телу, и издал рычащий звук, когда руки друга сжали задницу, да так что от этого идеального сочетания боли и наслаждения в брюках стало очень тесно. данте был так возбуждён, что перед глазами начинало плыть. наощупь фоссет попытался найти угол письменного стола, чтобы наметить, могут ли они упереться в него, или же в стену рядом. попятившись вместе в одну из сторон, данте выставил руку вперед, и в какой-то момент всё же уперся ладонью в ровную поверхность. данте вжался в тео, толкнул его спиной к стене, (наверное, это она? осарио уже ничего не соображал).
каждое слово сопровождалось поцелуем вдоль шеи вверх, устремляясь к мочке уха, пробегаясь по ней кончиком языка. — пусть думают что хотят. мы знаем, как на самом деле.
ты — только мой.
данте рвёт поцелуй только, чтобы увидеть, как тео дышит — раскрасневшийся, с приоткрытым ртом, с этим чёртовым взглядом.
и тут же возвращается к нему снова. к шее, скулам, подбородку, ушам.
он великолепен.
он великолепен, когда сидит на каменных ступеньках, а на его лице танцует мягкий отсвет языков пламени зажигалки. великолепен, когда полирует инструментом украшение. великолепен, возвышаясь сверху между разведёнными ногами данте, или оставляющим дорожку из влажных поцелуев на дрожащем животе. великолепен, когда смотрит своими тёмными глазами /они как тлеющие угли под тонкой кожей ночи, грех без капли раскаяния, крепкое вино, и пожары/, а после оставляет след от зубов на мягкой коже под коленом.
теодор монтегю великолепен в каждом своём проявлении.
руки данте скользят по его груди, сминая и разглаживая расстегнутую рубашку, стараясь коснуться каждого участка тела, буквально лапая во всех местах, будто не делали это сотни раз, будто не знали каждый миллиметр знакомого тела. пальцы торопливо, но ловко вытаскивают одежду, заправленную в брюки, избавляются от оставшихся (или уцелевших? узнаем позже) пуговиц. данте нетерпеливо сбрасывает ткань с плеч — и тут же припадает губами к оголённым участкам кожи. он прикусывает нежную кожу на ключицах, груди, ниже, сразу же зализывая и целуя, когда скидывает рубашку монтегю долой, вниз, к ногам, куда-то к своей. его язык горячий, влажный, — он мажет им по соскам, поначалу словно не замечая, только чтобы вернуться к ним немного позже, прихватить один губами, лаская пальцами второй, или слегка прикусив зубами, потянуть, снова облизать. иногда дыхание сбивается так, что ему нужно немного воздуха — осарио горячо выдыхает между ключиц.
данте потерпел совсем немного, — насладившись приятным давлением большого пальца на нижнюю губу, и гораздо менее невинными картинками, заполнившими тотчас все мысли, — прежде чем он открыл податливый рот; прежде, чем он дождался пока палец теодора коснется его языка, и тогда, слегка прикусив, втянув, облизнув и выпустив, данте оставил влажное подобие поцелуя.
послушный мальчик, этот именинник, хороший мальчик — столь прозрачный намёк друга он поймал с игривой ухмылкой. показать, как сильно скучал? — о, он покажет ему. покажет, как и подобает соскучившемуся парню, и сделает вид, что это благодарность за полученный подарок, а не ещё один бонусом в честь дня рождения. сделает вид, что не мечтал об этом с последнего раза, и уже сейчас его рот не полон слюны от одного дурманящего предвкушения. — только не кончи мне на одежду, — фраза с усмешкой в уголке губ. просто такая дружеская просьба. им было достаточно комфортно вдвоем, чтобы отпускать подобные комментарии, но после сказанного, данте принял серьезный вид, его взгляд стал тягучее, томнее. шутки в сторону: он действительно больше не мог ждать. руки потянулись к штанам тео. ремень, пуговица, ширинка. ловкие пальчики быстро избавились от первых препятствий, и приспустили штаны вместе с трусами так, что резинка ещё осталась на линии лобка и безумно соблазнительных выпуклых косточках, так и ждущих поцелуя, а брюки, не задерживаясь, упали на пол. данте дождался, пока теодор не переступил, чтобы избавить его от мешающей ткани штанов совсем, а после, не сдерживаясь, оставил горячие прикосновения губ на всех излюбленных местах.
держась за соблазнительные, твёрдые и манящие бока тео, данте медленно опустился на колени, не отрывая взгляда от лица монтегю. словно собирался готовиться к причастию, а не взять член друга в рот и хорошенько отсосать. привычно, уверенно, — осарио в этом деле особенно грациозен. прошагав средним пальцем от груди по вздрагивающему от напряжения и возбуждения прессу, он оставил дорожку из влажных поцелуев после. дойдя до самого низа, переместил свои разгорячённые ладони на бёдра, ногтями впился в линии нижнего пресса, и, слегка царапая кожу, придвинулся к уже приспущенной резинке трусов. теряющий терпение, данте стянул их вниз: наконец-то, последняя деталь одежды больше не преграда. осарио, прежде чем сосредоточиться, ещё раз напоследок взглянул вверх, поднимая свои совсем-не-невинные голубые глаза, чтобы поймать такой же безумный от желания взгляд, почувствовать, как жар растекается по всему телу. теперь пальцы — нежными, слегка щекочущими движениями поднялись наверх, скользя по внутренней стороне бёдер. удобно зафиксировавши руки на заднице теодора, фоссет время от времени оставлял красные пятна и вмятины, сжимая упругую плоть, — отдельный момент удовольствия.
удерживая тео, он поцеловал нижнюю часть живота, чуть прикусил кожу. данте, нетерпеливо, используя слюну и уже выступивший предэякулят как смазку, без продолжения прелюдий, наконец, взял теодора в рот — жадно, сразу до упора, потом, выпустил из хватки своего тёплого, мягкого рта, только чтобы перехватить член одной рукой, и пройтись языком по всей его длине, прикоснуться губами.
он умело водит кончиком языка по головке, после посасывает, чем вырывает несколько довольных стонов из тео. уделив должное внимание основанию, ловко помогая себе пальцами, чтобы принести большее удовольствие, снова возвращается к головке. обведя её языком в очередной раз, берёт в рот теперь наполовину. данте двигается размеренно, втягивая щёки, с каждым разом вбирая всё больше, пока член не оказывается в расслабленном горле по основание под нужным углом. голова кружилась от тяжести на языке. хриплые булькающие звуки начисто заглушались протяжными стонами сверху. фоссет обжигал кожу горячим воздухом, часто выдыхая через нос, и перешёл на более быстрый темп, когда почувствовал в своих волосах пальцы монтегю, направляющие, толкающие, подсказывающие нужный ритм. как сделать ещё лучше. ещё приятнее. и послушный данте двигается в нужном такте, пухлые губы обхватывают плотнее, вкус такой знакомый. тело — любимое. он чувствует, что и сам может кончить, хотя ещё даже не касался себя, даря всё внимание только одному человеку. сам факт того, что данте мог взять его вот так — сжать до болезненных ощущений в ягодицах, до судороги в собственных пальцах, потянуть на себя, — сводил данте с ума. и почувствовав, как прядь волос бережно убирают с его лба, он берет в себя больше.
он не терпелив, просто он голоден.
данте знает, что нравится тео — когда тот теряет контроль, когда подается бёдрами вперёд, навстречу, насаживаясь сам, когда бормочет что-то бессвязное.
чувствуя наступление его разрядки, неразборчивое «сейчас», срывающееся с губ парня — осарио старается особенно сильно. глубже. и когда монтегю, с проклятиями и потрясающе-ахуенным стоном, теряется в этом моменте, данте замирает, позволяет волне пройти, шумно дышит носом, держит до последнего. реакция тео — честная, громкая, — повторно возбуждает, как само прикосновение.
вытерев рот, а часть спермы всё же глотнув, данте поднимается с колен, учащённо дыша, слегка опираясь на теодора, или чтобы не разрывать прикосновений (никогда), или же это монтегю просто помогал своему послушному мальчику подняться? данте молча проводит ладонью по вспотевшей шее тео, ведёт руку вниз, оглаживает ключицу, задумчиво водит по ней пальцем. словно хочет остаться в этом моменте. словно сейчас у них есть всё время мира — не около полусотни гостей этажом ниже, и праздник, на котором данте не горит желанием присутствовать. — ну что, скучал ли я достаточно? — осарио дарит теодору свою улыбку, и коротко целует друга в то же место, откуда собрал капли пота. замирает ненадолго, чтобы вдохнуть запах родного тела, оставить в памяти. затем выравнивается, ловит взгляд монтегю, острый, довольный. подходит близко-близко. придвигается для поцелуя, но в последний момент говорит:
— что ж, а теперь я хочу открыть свой, — осарио имел в виду подарок. он успел сделать маленький шажочек назад, протянуть руку к столу, и уже держал в руках бархатную коробочку, которую чуть ранее ему вручил теодор. — думаю, я заслужил. — влажные губы блестели.
наверное, глаза данте впервые вспыхнули искренним, неподдельным восторгом: обычно равнодушный, хм, да к любым вещам, он на секунду потерял дар речи. это было слишком? знать, что исключительно — для него? только сейчас данте осознал, в чём была разница: если с другими людьми подарки ощущались формой манипуляции, лести, или чем-то безликим, то тео просто… знал его. чувствовал.
— поможешь имениннику? — невинно спросил данте, однако с намерением совсем не соответствующим. он повернулся к монтегю спиной, без рубашки, в полуспущенных брюках из-за отсутствия ремня, и терпеливо ждал, пока не почувствует металл на своей коже. ну, и ещё кое-что сзади, для чего штаны будут лишними.
расцарапай мне спину, чтобы добраться до сердца.
молю.
• ────── вопрос-ответ ────── •
— Про бронирование канонов.
В каноне предоставлена вся необходимая информация. Администратор дает дополнительную информацию, если у него возникают вопросы во вашей анкете. Если вы что-то не поняли, или у вас есть дополнительные вопросы — задавайте их администраторам.
Если вам отказали в анкете на канона — вы всегда можете взять неканона.
— Про невербальную и беспалочковую магию: бронирование в гостевой.
В каноне ролевой невербальная магия и беспалочковая отличаются.
1) Невербальной магией владеют не все — нужно долго и упорно тренироваться, чтобы ее развить. Редко, но случается, когда невербальная магия дается волшебнику легко. И таких единицы.
Уровни невербальной магии:
Базовый: бытовые и простые заклинания.
Средний: защитные заклинания.
Сложный: атакующие заклинания.
В бою невербальные заклинания могут дать волшебникам преимущество в несколько секунд, ведь они не предупреждают противника о заклинании, которое готовятся применить, однако большинство заклинаний, оказываются менее эффективными, чем если бы оно было произнесено вслух. Непростительные заклинания невербально не произносятся.
2) Способность к беспалочковой магии — волшебник выполняет магическое действие, контролирует магию, не нуждаясь в проводнике-палочке. Доступно стихийным магам, а также крайне сильным волшебникам, которые развивают в себе способность. Очень немногие маги способны обходиться всего лишь пассами рук или даже просто взглядом, не говоря уже о виртуозах, которые творят чудеса, не отвлекаясь от обыденных дел.
Уровни беспалочковой магии:
Базовый: в основном бытовая магия, призыв предметов.
Средний: более сложные заклинания: простая трансфигурация, некоторые защитные.
Сложный: боевая, защитная магия, при должном усилии, ментальная.
3) Если персонаж может просто в невербалистику базового или среднего уровня, то бронировать этот навык не нужно, но, если, персонаж уже на этапе анкеты и начала игры владеет невербальной магией на сложном уровне — такая способность бронируется заранее. Способность к беспалочковой магии бронируется в любом случае.
— Про артефакты в анкетах:
1. Может ли артефакт быть оружием, например, лук и стрелы?
2. Может ли лекарство быть артефактом?
Свои предложения по артефактам вносить можно. Только админы потом одобрить их должны на этапе анкеты.
1) По первому вопросу. Артефакт может быть оружием, да, у нас есть у персов такие предметы, зачарованные на различные свойства. Например, иглы — временно воруют чужую магическую мощь, ножи — с повышенной точностью попадания.
У нас также в списке артефактов:
Зачарованные предметы магглов. «Маггловские» вещи, модифицированные не слишком сложными и полезными магическими свойствами: попадать в цель, служить «жучком» для прослушки или отслеживания чьего-то местоположения, отпугивать разные виды магических существ, и т. п. Примером такого артефакта являются ножи Селины Крейн, зачарованные попадать точно в цель. Подобные предметы не только стоят немало галлеонов, но и делаются под заказ, что подразумевает наличие хороших связей и популярности на рынке у заказчика.
Если в планах что-то похожее со стрелами, то, следовательно, нужно будет описать, откуда появился у персонажа такой артефакт, куплен или украден, получен официально (через, например, министерство) или сделан самостоятельно.
2) У нас есть лекарственные артефакты, но обычно это зелья, редкие, уникальные, с каким-то общим назначением, и с большой мощью. Также есть волшебные таблетки, повышающие магическую мощь. Но обычные личные предметы не дают персонажу ни усилений, ни способностей, в личных вещах также могут быть таблетки и зелья, как и оружие, которыми персонаж пользуется на постоянной основе. Например, если по твоей идее персонаж принимает своё лекарство как таблетки, и у них есть какая-то побочка, их можно не считать за артефакт. Это как то же зелье, приготовленное и используемое зельеварами в процессе игры, или колдомедики с целительными отварами. Если таблетка предполагается разового действия — это уже немного другая ситуация. Артефакты ограничены и занимают место, под них всего 4 слота для канонов и 3 для неканонов, и, что важно, — новые создаются только на этапе написания игроком анкеты. Потому, лучше взять таблетки как личный предмет, и оставить свободный слот под что-то более существенное.
— Про внешность в анкете: если персонаж в министерстве под чужой личиной работает, то у меня будет плюс имя и плюс модель?
Если персонажу доступна возможность полностью менять обличие и он использует другое "лицо" довольно часто, то игрок может по желанию взять себе дополнительную внешность. Когда в описании канона не указано ни имя, ни пол, ни детали касающиеся визуализации — игрок придумывает всё самостоятельно. Всё, что пропущено в информации по канону или не указано там — прописывается игроком. В ином случае — при наличии краткого описания внешности — требуется согласование второй модели с администрацией. Обращаем внимание также на то, что в главах и квестах способности персонажей менять облик могут использоваться в угоду сюжету, — разовым, как правило, "заимствованием" чужого имени или внешности распоряжается гейм-мастер.
— Патронус и тёмные волшебники.
Существует мнение, что тёмный волшебник не способен вызвать патронус, так как он находится на тёмной стороне вместе с дементорами. Однако у злого мага может возникнуть потребность в защитнике. О последствиях использования этих чар нечестными колдунами рассказывала Миранда Гуссокл: когда тёмный маг Разидиан произнёс заклинание «Экспекто Патронум», из его палочки посыпались личинки, облепили его и уничтожили.
Патронуса нет у магов, которые пользуются темной магией и непростительными. У некоторых светлых волшебников также нет телесного патронуса.
— Непростительные заклинания.
Светлые маги применяют непростительные в крайних случаях, например, когда хотят защитить себя. Для применения непростительного, таких как:
— Империус — нужно захотеть подчинить человека.
— Круцио — нужно захотеть причинить боль.
— Авада — нужно захотеть убить.
Если ваш персонаж пользуется непростительными, необходимо упомянуть данную информацию в анкете, а также написать, при каких обстоятельствах он это делает. Написать краткие примеры из жизни в биографии. Ради чего?
• ────── список занятых внешностей ────── •
∾ ────── a ∾ b ∾ c ────── ∾
aaron taylor-johnson*
abigail cowen
adam driver*
amita suman*
andreas pietschmann*
anya chalotra
anya taylor-joy
bella thorne
ben barnes*
benjamin wadsworth
boyd holbrook*
bryan dechart
charlie cox
cillian murphy*
∾ ────── d ∾ e ∾ f ────── ∾
deaken bluman*
derek luh
dominic sherwood*
drew starkey*
dylan o'brien
elizabeth debicki
elizabeth olsen
ellie bamber
emma roberts*
emma stone*
finn wittrock*
florence pugh
françois arnaud
freddy carter
∾ ────── g ∾ h ∾ i ∾ j ────── ∾
gavin leatherwood*
gillian anderson*
haley bennett*
jack wolfe*
jake gyllenhaal*
janet montgomery*
jason momoa
jenna coleman
jennifer morrison*
jessica chastain*
jodie comer*
joel kinnaman*
jonathan tucker*
∾ ────── k ∾ l ∾ m ∾ n ────── ∾
karl urban*
kaya scodelario*
kim sejeong
kit harington*
lady gaga*
laysla de oliveira*
louis partridge
mark mckenna*
maggie lindemann
matthew gray gubler*
max riemelt*
maxence danet-fauvel*
∾ ────── o ∾ p ∾ q ∾ r ────── ∾
oliver jackson-cohen
olivia сооke*
orlando bloom*
oscar isaac*
patrick wilson*
paulina chavez*
rebecca ferguson*
rudy pankow
∾ ────── s ∾ t ∾ u ∾ v ────── ∾
samara weaving*
tessa thompson*
thomas doherty*
tom ellis
tom sturridge*
∾ ────── w ∾ x ∾ y ∾ z ────── ∾
zack nelson
zendaya*
так, линчеватель дрался с дурачками, которые удрали на него на машине, он стрелял по колесам и ему выстрелили в бедро, он хотел погнаться за ними на мотоцикле, но свинец проел ему мышцы и доставил охуительно прекрасную боль и когда он начал вытаскивать пулю, то твой тут как тут и мой сказал ему, мол, шо зыришь, вали домой, тут не представление шапито. это было у бара
думаю, твой перс стал свидетелем этого всего зрелища
i need to
написать описание
16 октября
Сегодня явно не его день. Шепот в голове снова не позволил спокойно поспать. За окном разверзлась судная ночь — ветер ревел, срывал пожелтевшие листья, неистово орал, будто хотел уничтожить человечество. Стереть его с лица Земли. Господь, протяни ладонь, проведи сухими пальцами по твердыни, смахни со стола обилие греха. Из продрогшей земли торчали ржавые гвозди, и нанизанные на них люди, похожие на бабочек, неистово кричали, моля о спасении. Подъем — ровно в шесть утра, следом проверка пистолета под подушкой и тяжелый, облегченный выдох. Задерживать дыхание и прислушиваться к окружающему миру — замершему во тьме — стало привычным, словно иной жизни он не знал. Той, за дверью которой прятались доверие и безопасность. Когда он спал настолько крепким сном, что не подрывался в поту от тихих шагов соседей сверху. Протянув руку, Ноа замер, пристально всматриваясь в секундную стрелку часов, а потом, моргнув, зарылся носом в непрочитанные сообщения. Роб прислал координаты разыскиваемых им преступников, которым удалось избежать наказания за свои отвратительные поступки. Должен ли я испытывать удовлетворение и радость? Люди улыбаются, когда получают желаемое. Но внутри все молчало. Положив телефон экраном вниз на холодный пол, Кости выпутался из плена тонкой белой простыни и, пошатываясь, побрел в ванну. В руке сотня иголок терзали нежную плоть адской болью.
Звуки — раздражающе проклятые — вторглись в истерзанный кошмарами разум с непреодолимой и разрушающей силой. Бурые капли стекали с влажного лба вниз, очерчивали прямую линию и срывались с грязного носа. В детстве он подолгу сидел в наполненной до краев ванне, пытаясь согреть оледеневшие руки. Светло-голубая вода заполняет ванну, кружит водовороты вокруг израненных колен Ноа. Синяки везде, живого места не осталось — куда ни тыкни, он тут же поморщится. Сколько еще я смогу дробить чужие кости, сохранив собственные? Он не человек — и все же, боль, распространяющаяся по телу, терзала и мучила его, словно голодные псы разрывали и растаскивали останки. Красные пятна всплывали перед глазами. Пальцы с засохшей кровью под ногтями впились в чувствительную кожу — и давили, давили, давили, пока не зарылись, не вторглись и не разорвали ноющие мышцы, медленно вытащив свинцовую пулю. Она жгла кончики пальцев, разъела кожу, но Кости держал ее достаточно крепко, чтобы она не упала в воду и не прожгла ему бедро.
Мое отмщение. Одна пуля — еще одна маленькая победа, глухое эхо которой повиснет, увязнет и потонет в удушливом воздухе. Пар скроет разочарование. Отправив пулю щелчком пальцев в металлическую тарелку, он уперся руками о скользкий борт и поднялся, прикрыв на секунду глаза. Очередной промокший бинт с трудом отлепляется от руки, и Ноа его тут же заменяет свежим — тугим, влажным, пропитанным лечебной мазью. Он почти не морщится, когда мазь холодит открытую рану. Ему почти не больно. Хрупкой девушке, за чью боль он отомстил, было больнее. Она кричала, умоляя их прекратить, настолько сильно, что отец чуть ли не на коленях просил посадить этих ублюдков за решетку. И как итог — они на свободе, а она зарыта глубоко под землей. Ее горечь проседью осела у пожилого мужчины на висках. Он приносил белые лилии на могилу долгие пять лет, пока Кости не решил вспомнить про них. Открыть старое дело. Взяться за поводья справедливости и довести начатое до конца. Почтить память. Сделать что-то хорошее. Успокоить бурю за окном.
Ноа задерживает взгляд на отражении, когда вытирает кровь с виска. Старые раны открылись, стекали по бледной коже, размазывали прошлое в настоящем. Это не первое полотенце, скинутое в порыве странного безразличия в плетеную корзину для белья. Опустив взгляд на тыльную сторону ладони, он пальцем потер свежую круглую рану от прикуривателя. Чужак пытался — Кости усмехнулся, вспоминая — остановить меня. Кричал, как свинья на скотобойне. Отчаянно отталкивал слабыми руками, пока Ноа вырезал на его груди слово «насильник». А сколько кричала она, отбиваясь, словно от этого зависела ее жизнь, душила липкий страх внутри, пока чужак ломал ей кости? Сжимал и крошил в кулаке. Кости обнажен — и эта нагота никогда не нравилась ему. Ни спрятать оружие, ни спрятаться самому. Он представляет, как ее принуждают: заламывают руки, прикрывают рот и раздвигают ноги — и его почти тошнит. Прошлое крадется сзади: он видит трепыхающиеся тени за спиной, как они бесшумно подбираются, будто воры. И хочет, чтобы остальные — с кем он еще не встретился — испытали то же самое. Боль в перебинтованной руке постепенно затихает — пульсацией, толчками, вдохами-выдохами сквозь зубы. Теперь он в состоянии сжать пальцы в кулак, не поморщившись. Роб пишет — отдохни, на что Ноа лишь неприязненно хмыкает. Отдохнет на том свете. Пистолет согласно поблескивает маслянистой ручкой в тусклом свете лампы.
Свирепый дождь прекратился лишь в момент глушения двигателя. Кому в здравом уме придет идиотская идея посетить бар в дождливую погоду? Ноа плавно слез с черного мотоцикла, внимательно рассматривая неоновую красную вывеску. Туман, как дым в закрытой комнате, застыл неподвижно, стирая очертания автомобилей на парковке и сам бар. Лишь красные огни задавали направление. Не заблудиться. В «Пороке» собирались люди разного достатка: от прилично зарабатывающих работников банка до полных придурков, связывающих свою жизнь с наркотиками и незаконной торговлей людьми. При службе он несколько раз накрывал данное заведение, задерживая преступников интересного калибра. Опасным людям полицейские обычно не переходили дорогу, но в каждом правиле всегда крылось исключение. Наложив на себя иллюзию, Кости неспешно зашел в бар, продолжив пристально разглядывать каждого встречного. Ища глазами невидимые красные точки посередине — между лопаток, у незнакомцев.
Его не рассматривают — Ноа затерялся в толпе потных и пьяных мужиков, и только для чужаков он остался их самым страшным кошмаром. Он не пытался спрятать нож, металл которого отражал блеклый свет дешевых лампочек на потолке. Его шершавая рукоятка, обвитая потертой кожей, приятно грела мозолистые пальцы, подталкивала идти вперед и не сворачивать. Как верный пес, что кусал хозяина за руку, не выполняющего обещаний. А еще шепотом приказывала — брось меня, брось меня, брось меня. Запусти, как дротик, чего тебе стоит? Он думает: не время, а простреленная рука начинает дико ныть, что болью сводит пальцы. Кости велит ей замолчать. Один из списка смертников, завидев его, пускается в бега. Ноа не отстает — почуяв запах крови, он подобно гончей, уже не упустит жертву из виду, — минует барную стойку, темный узкий коридор с туалетами и, без усилий толкнув тяжелую железную дверь, словно пуля вылетает из дула пистолета наружу.
Их пятеро. Ноа один. И это его не беспокоит. Первого он убирает ножом — бросает его одним слитым движением и тот падает замертво, смотря в грозовое небо остекленевшими глазами. Внутри пробуждается нечто жутко голодное, как перед аперитивом. И Кости слышит хлюпающие и торопливые шаги второго, который нападает сзади, разбив о его голову пустую бутылку. Перед глазами мир взрывается яркими красками боли — такой нелюбимой, дьявольской, ненавистной. Он почти стонет и, перехватив руку нападавшего, ломает ее. Истошный крик музыкой переливается в ушах. Трое неподалеку смердели страхом. Они видели в нем всадника без головы, очень не вовремя пришедшего по их грешные душонки. Ноа хорошо слышал, как беспокойно колотятся их сердца, будто они лежали перед ним вскрытыми на операционном столе. Он представлял их маленькими муравьями, которых поклялся передавить ботинком по очереди. Остальные поспешно запрыгнули в машину, стоило ему легко свернуть шею второму. Без лишних движений. Последнего гада он планировал оставить на десерт: Кости спустит его прямо в ад, и даже богатенький папашка не вытащит его оттуда.
Ноа сорвался с места, не заметив, как вытащил пистолет из кобуры на бедре, и на бегу расстреливал шины, стекла заднего вида и чужака, который стрелял в ответ — с понятной и прозрачной целью сбить его. Первый магазин сменился вторым. Ему удалось убить третьего на заднем сиденье, когда он почувствовал жгучую боль в бедре. Свинец всегда останавливал его — сколько ни уклоняйся, ни пытайся увернуться, он схватит за руку, что не вздохнуть. Воздух казался раскаленным, удушливым и спертым. Ощущение опасности не оставляло его ни на минуту. Он источал ее сам, приманивал, как магнит, и она существовала рядом с ним, неизменная и ждущая, словно он шел по минному полю без опознавательных знаков или нес это минное поле в себе. Глядишь, взорвется, залив мокрую асфальтную дорожку свежей, с металлическим запахом, кровью. Дождь обрушился на него, придавив к дороге. Упустил. Если бы не эта несчастная последняя пуля в чужом магазине, ему бы удалось настигнуть двух оставшихся.
Разочарование горчило на корне языка. Прикрыв ладонью рану на внутренней стороне бедра — попал так, что почти промазал, идиот, — Кости развернулся и медленно побрел к своему мотоциклу. Нужно вытащить пулю, как она вообще застряла в моем теле? Уже у мотоцикла, он устало привалился к нему и, вытащив дрожащими пальцами бинты со спиртом, приготовился извлекать пулю пальцами. В этот раз он не брал с собой полный набор, наивно полагая, что обойдется без огнестрельного ранения. Надавив на рану, он зашипел и, выдохнув, погрузил пальцы в открытую рану. Только он приготовился извлечь пулю, как его отвлек незнакомец, проходивший мимо. Дождь заливал ему обзор, но это не остановило Кости от гневного и недовольного: — И чего ты уставился? Представление закончилось.
«Рождение — начало жизни, а смерть — необратимый конец.
Древние верили: поглощая плоть противника — победитель забирал его жизнь.
Сила переполняла победившего.
И проигравшему ничего не оставалось, как принять свою смерть с достоинством и необходимой покорностью.»
ㅤㅤㅤㅤ Внутри — почти всегда — ощущалась глубокая зияющая дыра из невысказанных слов и неоправданных детских надежд. Стоило одному наложиться на другое — и свободу в необходимости высказываться в чувствах можно было похоронить на заднем дворе его картонной крепости. В месте силы. В сером и зыбком мать говорит ему не терять головы — и все, что ему удалось сделать — не окунуться в чертовый омут с головой. Чужое и твердое убеждение, что «Дорогой, Вансберги только разрушают, а не любят», почти навсегда уничтожили в нем желание переубеждаться. Он любил, но не долго. И это хрупкое «не долго» вклинивалось между ребрами, хоронилось в сердце.
ㅤㅤㅤㅤ Их окружила приятная тишина. Блики чистой белой луны отражались в каменной кладке камина. Лишь еле слышное потрескивание дров напоминало о том, что никто из них не спал. Эрих завороженно смотрел на яркие языки пламени и вспоминал первую охоту с матерью, в которой она подстрелила дикую утку у него на глазах. Стрелка на серебряных карманных часах с тяжелой цепью отсчитывала секунды.
ㅤㅤㅤㅤ «Птицы, — сказала она со вздохом, — такие прекрасные, правда? Свободные в полете и невольные на земле. Стоит лишь взгляду зацепится за нее, как ее свобода утекает сквозь пальцы подобно песку. Ты, мальчик мой, не должен испытывать к ней жалости. Никогда! Тихо поблагодари за еду, сложив руки. На каждого намного проще смотреть через прицел винтовки, дорогой. Так всякая жизнь теряет ценность, превращается в безделушку, которую ты вскоре подберешь грязными от земли пальцами. Птиц не жалко, как, впрочем, и людей. Ведь так?» — с неким сожалением и тихим интересом, спрашивала она, словно до конца не понимала собственных чувств. Она часто выбиралась на охоту в одиночестве, пропадая в густых и непроходимых лесах месяцами, и возвращалась домой с полным кузовом разнообразного мяса. Ее сердце не обливалось кровью при виде убитых животных, но все же что-то сидело глубоко внутри и не получало выхода. Голод — вот, что она ощущала, необходимость насытиться и отправиться в путь. В ее зеленых глазах блестело безразличие, отражение которого Эрих ловил на лезвие охотничьего ножа. Мать умело разделывала туши, и утка не стала исключением.
ㅤㅤㅤㅤ Маленький мальчик с любопытством наблюдал за бледными мозолистыми пальцами матери, украшенными аккуратными и выпуклыми белесыми шрамами, которые она не прятала, а с гордостью демонстрировала всем, кто видел в ней легкую мишень. Однажды она выстрелила наглому мужику в колено из-за бранного слова, а потом взорвала его машину, давя педаль газа в пол. Игрушка в бензобак, политая бензином, и спичка — всего два предмета, позволившие оскорбленной женщине насолить «поганому ублюдку в отстойных очках». Она ненавидела, когда с ней не считались, и никому не позволяла обращаться с ней «неподобающе». Маленький мальчик с восторгом смотрел на свою маму, с трепетом ждал первой охоты с ней, и когда получил желаемое — ужаснулся. Мать шрамированными пальцами нечто страшное пробудила в нем, разожгла огонь в темной пещере.
ㅤㅤㅤㅤ Безумие не парализует, оно окрыляет.
ㅤㅤㅤㅤ Гидеон находился у него под прицелом. Образы играли на периферии сознания — как мужчина принял из его рук ружье и как потом выстрелил из него, поистине непередаваемые ощущения ликования. По всей вероятности, именно так чувствовала себя его мать, лицезрев его первое убийство. Настоящее доказательство уважения и почитания к матери. Если бы он тогда отказался следовать ее воле, то не встретился с Флетчером и не почувствовал смелого прикосновения пальцев к коже. Эрих терпеть не мог чужие прикосновения — они сдирали с него омертвелую кожу, но прикосновения мужчины проходились приятным электрическим разрядом по позвоночнику. Вансберг не останавливал его, не отталкивал, как остальных. Раздавал привилегии при втором знакомстве — так на тебя не похоже, старина, — усмехнулся он, проводив Гидеона взглядом.
ㅤㅤㅤㅤ «Наслаждайся тишиной», гласило название песни. Тишина расслабляла, вводила в необходимый транс, позволяя двоим совершенно незнакомым людям открыться друг другу, будто они находились на приеме известного семейного психотерапевта. И оба добровольно согласились на это безумие. Из всего многообразия выставленных напоказ пластинок, словно филигранно выточенных человеческих костей, Гидеон выбрал самую подходящую интимной атмосфере. Его изящные пальцы невесомо проходились по потрескавшимся корешкам старых пластинок, а взгляд лениво скользил по словам — выбирая и примеряясь. Тот предвкушал разговор. Разбирался ли Гидеон в музыке так же хорошо, как Эрих, или выбрал наугад — останется нераскрытым. В прошлом маленький мальчик с любопытством наблюдал за матерью, наивно полагая, что весь мир выстроен по незыблемой системе «охотник жрет добычу», а сейчас он испытывал голод иного рода. Ему хотелось выпить чужой разум до дна.
ㅤㅤㅤㅤПозволь мне узнать тебя. Вкусить прелесть доверия, перемешанного с бесконечно прекрасным удовольствием. С головой окунуться в непроходимые дебри сомнений и раздирающего душу раздора. Усомниться в сказанных словах. Прочесть невысказанное между строк. Увидеть предлог — и кровь на твоем лице. Открой, что раньше было скрыто под дружелюбной маской, дай мне посмотреть.
ㅤㅤㅤㅤДокурив, Эрих одним легким движением пальцев запустил сигарету в огонь. Сменив пластинку, он присоединился к Гидеону, уже цепляющего бокал с вином. Выглядел тот похорошевшем и довольным, словно сходил в массажный салон — он разделял это чувство.
ㅤㅤㅤㅤ— Наш мир — слишком громкая симфония, которую не каждый осилит, — насмешливо прокомментировал он сказанное мужчиной, коротко улыбнувшись в бокал. Не касаясь носом хрустального борта, он с затаенным удовольствием поймал ягодный запах, перемешанный с едва различимым шоколадным шлейфом. Запах восхитительный. Каберне Совиньон — никогда его не подводил. — В юношестве тишина претила мне, я искал громкие голоса людей и музыку, которая пришлась бы мне по вкусу. Люди достаточно громко думают, если к ним прислушаться, — а в молодости ему приходилось прислушиваться ко всем подряд, чтобы отыскать чужие слабости. В каждом Эрих находил дырок пять, не меньше. Размером с пулевое отверстие. Кому сердце разбили, кого предали — сплошной мусор, и один самородок, его хозяин — Магнус. Люди любили изливать свою душу, выплескивая ее ему в лицо, словно вино. Отпив немного, он снова закурил, выдохнув густой дым через нос. Воспоминания о прошлом — паскудная штука: ему все время хотелось курить, когда он подсчитывал, сколько дерьма ему пришлось выслушать, чтобы найти место под солнцем. Его город — его родной дом — в котором родился его единственный сын, утопал в шумном мареве ненависти и похоти. В тишине лишь он находил утешение. Необходимый оплот. — Чем старше я становился, тем меньше мне нравился шумный город. И ты когда-нибудь привыкнешь к тишине, станет твоим верным другом, что потом хуй друг от друга оторветесь, — заключил Вансберг, стряхнув пепел в пепельницу и сделав еще один глоток.
ㅤㅤㅤㅤПо первому впечатлению Гидеон — дитя каменных джунглей, не имеющий опыта жить в лесной чаще несколько месяцев подряд и не пользоваться благами цивилизации. Эрих же успел вдохнуть хвойного воздуха с лихвой, поспать в окопах и вдоволь насладиться горным воздухом. У них разный уровень восприятия окружающего мира. Если для него пейзаж довольно привычен и избит, и в нем он скорее зализывал новоприобретенные раны, то для Гидеона эта вылазка — новое и увлекательное путешествие. Миссия, на которой он почувствовал себя обновленным. Флетчер не свалился спать без задних ног — Вансберг мог только похвалить его за выдержку. Хороший ученик, впитывающий все, что скажет и покажет ему учитель.
ㅤㅤㅤㅤНа похвалу Эрих растянул губы в легкой ухмылке. — Флетчер, сегодня ты балуешь меня комплиментами, я могу и привыкнуть, — сказал он довольно. Очередной комплимент, которым Гидеон подкармливает его. Бросает кость, не придавая ей никакого значения. — Чем же ты питаешься, что мои блюда вызывают в тебе такой восторг? — не удержался Вансберг от вопроса, придвинувшись плотнее к мужчине, касаясь чужого бедра своим. Он задумчиво курит, иногда отвлекаясь на вино, не притрагиваясь к еде. Эрих не тянет руки к тому, кто не будет принадлежать ему. Не забирает больше положенного, всегда держит дистанцию, но глядя на расслабленного Гидеона он понимает — он захочет кадык, ключицы, грудь и бедра — и все обязательно губами и языком. В нем сидит чудовище, и уже довольно давно его не кормили.
ㅤㅤㅤㅤ— Расскажу тебе одну историю, и если не будешь отвлекаться — дам ответ на один вопрос. Советую тебе хорошенько его продумать, — коснувшись пальцами крепкого бедра, он посмотрел в голубые глаза. Эрих редко откровенничал. Не мастак по части слов. У него не входило в привычку трепаться о себе первому встречному, нахер не сдалось чужое понимание. У него этого понимания — вагон и маленькая тележка охуенно тяжелого угля, который он с удовольствием вывалит за шиворот любому, кто захочет узнать его поближе. Разговор о личном — не для него, никогда. Всегда сухие ответы на обычные вопросы. Не то чтобы Эрих планировал рассказывать что-то личное Гидеону, просто так вышло. Это все чужое желание впитывать информацию, которое Флетчер открыто транслировал ему через свое поведение. Тот приспосабливался к нему, как хамелеон к новой территории, привыкал. Желал узнать его поближе, и благодарил, когда Вансберг что-то делал для него. Как бы сильно мужчина рядом с ним не был застегнут — Эрих любому даст фору. Скелетам в шкафу уже не хватало места. Все началось с чертовых перчаток, и закончилось потребностью поделиться чем-то своим. Чем-то, через что ему пришлось пройти, чтобы стать тем, кем он являлся сейчас. Начальная точка становления. Нужна она Гидеону или нет — не имело значения, он все равно собрался рассказать. А слушать или нет — выбор приглашенного гостя. Его личное пространство заполнено Гидеоном: его телом и запахом, кроткими улыбками и открытым взглядом. Эрих бы назвал его беззащитным, если бы тот не зашел к нему в душ. Слишком легко он обманывал его острые инстинкты. Не сжать зубы на тонкой шее — та вся в его метках.
ㅤㅤㅤㅤГидеон в его одежде был залит мягким золотым светом от желтого света огня. Тени танцевали на бледном лице, полосуя прямой нос и острые скулы, затекали под брови, откуда на него расслабленно смотрели яркие глаза. Затянувшись, он выдохнул дым и нависнув над мужчиной, очертил пальцами надбровную дугу и мазнул по переносице, не отрывая внимательного взгляда от глаз. Изучающе смотрел в упор. Горячо выдохнув на губы, которые целовал час назад, увел Гидеона в медленный поцелуй. Неспешный, без языка, простое прикосновение губ. Они обменивались дыханием, притираясь друг к другу. Когда пришло время отвлекаться на очередную затяжку, Эрих начал:
ㅤㅤㅤㅤ— Маленький мальчик боялся темноты, — в детстве мать часто обращалась к нему, как «мой маленький мальчик», или задавала вопросы незнакомцам, которые цеплялись к нему словами «что вы делаете с моим маленьким мальчиком?», а потом она называла его по имени и шарм детства канул в небытие. — И любящая мать, чтобы избавить сына от страха, отправилась с ним на охоту. Не первую и не последнюю. Она искренне считала, что оставить своего маленького мальчика одного ночью в лесу с фонариком достаточно, чтобы он привык к темноте, — его губы растянулись в кривой улыбке, когда он вспоминал, сколько стресса пережил той ночью из-за одного только желания матери помочь ему. Медленными, отвлекающими движениями огладив бедро Гидеона, он поднялся выше и, забравшись пальцами под черную рубашку, коснулся твердыми костяшками мягкого живота. Его губы снова припали к желанным губам. В висках застучала кровь, когда он ощутил ответные прикосновения. Когда услышал хриплый вздох. Его поцелуй становился настойчивее и сильнее, а ловкие пальцы, нежно поднявшись по животу вверх, зацепили твердый сосок и, сжав, двинулись дальше, к горлу. Оторвавшись от губ, он снова затянулся и продолжил уже хриплым, низким голосом: — но маленький мальчик не привык с первого раза. Он ждал мать прямо там, где она его оставила на закате. Всю ночь он сидел под деревом и вслушивался в звериные голоса и шепот леса, пока мать не забирала его утром. — Впечатав в уголок рта легкий поцелуй, он мазнул губами под челюстью и, едва задев зубами за кадык, зализал укус кончиком языка. Пальцы остановились на выступающей вене, мягко пригладили и осторожно, едва ощутимо, надавили. — И в один из таких дней, когда мать снова забрала мальчика под деревом, она влепила ему жесткую пощечину, назвав неблагодарным ублюдком, с тех пор маленький мальчик темноты не боялся. С тех пор он вообще ничего не боялся, — закончил он свой рассказ, несильно прикусив надключичную ямку.
Невозможно полностью узнать человека.
Ни за 5, ни за 10, ни за 20 лет.
У всех нас есть то, до чего никому не добраться.
То, с чем мы остаемся вечером на балконе, куря сигарету.
Но мы постараемся…
Проходясь пальцами по корешкам пластинок, Гидеон выбирал наугад, ведь не слишком хорошо разбирается в этом. Но все же некая избирательность можно было проследить в его действиях. Он вытащил пластинку, что привлекла его названием. Другие же он тоже не обделил вниманием, прочтя все, что было на тоненьких корешках, представляя себе, каким образом та или иная композиция будет звучать. Узнать человека можно самыми разными способами, не обязательно при этом донимать его вопросами. Эрих Вансберг не любитель много говорить о себе, в этом уж точно можно было не сомневаться, но Гидеон умел наблюдать, а потому делал акцент на всем, что только мог уловить взглядом, в том числе и на вещах, которыми окружал себя мужчина.
Теперь Гидеон ждал своего спутника, вслушиваясь в первые аккорды песни и делая глоток вина. На губах мелькнула улыбка, когда он взглянул на Эриха, присоединившегося к нему. Не заставил себя ждать. Музыка не перетягивала на себя все внимание, но прекрасно дополняла атмосферу, установившуюся в гостиной. Он не ошибся с этим почти случайным выбором, потому что слова идеально подходили под их случай, заставив его чуть помедлить со следующим глоток вина, лишь прислонив хрупкое стекло к губам и более тщательно перебирая слова песни в мыслях. Да, вряд ли тут можно было ошибиться, ведь пластинки были отобраны Эрихом, отражали его вкус и личность. Гидеон подозревал, что ему это понравится.
Он был расслаблен и доволен, а потому расположен к легкой беседе, которую они обязательно будут вести не слишком громко, чтобы не нарушать это наслаждение. В прошлую их встречу он был напряжен, пригласил Эриха поговорить, но в действительности разговор происходил словно в двух измерениях – голосом и прикосновениями. Ему никогда не нравился излишек касаний, ровно столько, сколько требуется, не более. Но Вансберг показал, что можно получать от этого удовольствие и иррационально желать больше. Его спрашивали, чего не хватает. В том числе и тишины, которой сложно было насладиться в шумном мегаполисе и с постоянно роящимися мыслями в голове. Эрих же сосредотачивал все внимание на себе так, что этот белый шум суеты терялся на его фоне, становилось тихо и спокойно. И уже было совершенно не важно в пентхаусе они или в домике посреди леса. Гидеон в свою очередь хотел показать, что только он может вот так бесцеремонно ворваться в закрытый мир Вансберга и с уютом поселиться там.
- Слова не обязательны, чтобы услышать. В тишине проще разобрать и найти нужное, - слишком много звуков обязательно помешают уловить истину. Нужно долго учиться, чтобы во всей какофонии, которую люди изливают на других, выцепить то самое ценное и важное, которое однажды пригодится. Во многом для того, чтобы просто знать, на что надавить. Многие люди не умеют отделять белый шум от по-настоящему важных слов. Поэтому Гидеон в обществе говорил много, умело маскируя личное за ширмой огромного потока слов, которые в действительности лишь пустые звуки. Но с Эрихом все было иначе. Ему нравилась та возможность, что они оба дали друг другу. Возможность залезть под кожу, покопаться внутри и узнать лучше. И эти их беседы не нарушали спокойствие тишины вокруг, как бы парадоксально не было. А буквально каждое слово несло в себе сакральный смысл, который далеко не каждый человек поймет, если сказать ему ровно тоже самое. – Я совершенно не против этой тишины, - Гидеон много лет провел в шуме, который не позволял ему вот так выдохнуть, пригубить вина и расслабленно улыбнуться, полностью удовлетворенным всем происходящим вокруг него. Ему было бы интересно узнать, что еще откроется ему, если провести тут не день и не два, а куда больше.
Гидеон улыбается, но надолго взгляд на лице Вансберга не задерживает, опускает его в тарелку, неспешно наматывая пасту на вилку. – А почему бы нет? – на выдохе произносит он. Ему нравится видеть эту ухмылку, а Флетчер имеет особенность отдаваться целиком и полностью, чтобы заполучить то, что ему нравится. Он готов сделать все, чтобы снова и снова вызывать эти эмоции на лице мужчины. – В основном в ресторанах, - будь то ужин за столиком или же заказанная доставка курьером. – Но шефы готовят для многих и за деньги, - мысль он не продолжает, ведь и так все понятно. Тут готовили специально для него. Вероятно, на вкус это никак не повлияло, но просто эмоциональная составляющая добавляла удовольствия от трапезы.
Гидеон с интересом поднимает на него глаза, когда слышит предложение послушать историю. От этого он уж точно не откажется, даже если бы в конце не было бы сладкого приза. Они долго смотрят друг другу в глаза, и Флетчер только кивает, давая понять, что уже решил, что будет внимательно слушать. Только он немного подается вперед, поставив на столик тарелку, а после остался так же с выпрямленной спиной, развернувшись немного корпусом к Эриху, тем самым показывая, что все внимание отдано только ему. В этот раз ему дают шанс узнать побольше не только о каких-то вкусовых предпочтениях, но и о чем-то более глубоком и личном. Как раз у них слишком интимная обстановка, именно то, что нужно для разговоров о чем-то недосягаемом для посторонних. Мягкий свет от огня в камине непредсказуемо плясал языками по их лицам, но это не мешало непрерывно смотреть в ореховые глаза, пронзительность которых могла как согреть, так и обжечь льдом. Гидеону же доставалось мягкое окутывающее тепло. Он касается лопатками спинки дивана, позволив нависнуть над собой. В этом движении не было угрозы, разве что только новой близости, которую Флетчер с готовностью принимает, не пытаясь прервать и изменить поцелуй. Невинный? Нет, этот поцелуй не был невинным, он был интимным в разы более, чем для некоторых был секс.
Все привыкли, что сказки волшебны, в них все хорошо и добро всегда побеждает. Это всего лишь иллюзия, которую взрослые создали для детей, которые потом вырастают и продолжают верить в то, что сказки правдивы. Настоящие же сказки, их оригиналы, не были теплыми, светлыми и счастливыми. Гидеону не нужно объяснять, про кого ему рассказывают сказку. Он слушает внимательно, даже не шевелится, чтобы случайным движением не создать лишнего шума. Взгляд лишь на несколько мгновений оторвался от лица Эриха, скользнув к его руке, что медленно, но настойчиво оглаживала бедро. Так вот о чем тот говорил, когда упоминал про отвлечение. Флетчер бесшумно выдыхает, стоит грубым пальцам коснуться его кожи под одеждой. Еще один поцелуй, теперь тот приобретает более яркие и взрывные оттенки, становится настойчивым и дерзким, словно Вансберг только и желает, чтобы Гидеон сдался и проиграл с этой еще одной маленькой игре. Чистые без единого шрама руки зарываются в его волосы, перебирают пряди, которые скользят между пальцами, словно песок, стремительно утекающий в часах во время интересной беседы. Одна ладонь соскальзывает на его шею, гладя и слегка проводя короткими ногтями. Сдавленный стон тонет в чужом рту. Он не отнимает рук, когда Эрих отрывается от его губ для новой затяжки и продолжения истории. Преданный. Говорят, что Вансберг верный пес. Возможно, люди не далеки от истины. Гидеон глубоко дышит и борется с желанием прервать рассказ, сдерживает себя, потому что для него награда уже то, что он слышит это. Но эти настойчивые губы и руки, жадные до плоти зубы делают воздух настолько плотным, что дышать трудно, а уж думать тем более. Флетчер не сдерживает стона, когда зубы смыкаются на его коже в конце истории. Слишком разные оттенки у слов и действий. И ему так не хочется сейчас нырять в это дерьмо, в считанные мгновения анализировать все услышанное. Он все запомнил, ничего не упустил, как и слов, так и из поцелуев и касаний. А еще решил, что тоже поделится с Эрихом пищей для размышлений. Они смогут поговорить об этой сказке немного позже, если захотят. А пока хочется окунуться в совершенно безумный жгучий омут.
Гидеон сжимает руку в волосах Эриха и немного тянет, вынудив того оторваться от шеи. Он встает с места, остановившись спиной к Вансбергу, словно дразня его и оттягивая момент. Двумя пальцами он легко поднимает бокал вина. – Любящая мать другого мальчика не вернулась за ним, - без предупреждения теперь Флетчер начал историю. В две глотка он осушает свой бокал и ставит его на место. Легко развернувшись, мужчина подходит вплотную и легко, грациозно перебрасывает ногу через бедро Эриха, опускаясь на его колени. – Тогда ее мать подумала, что, воспитав одного ребенка, сможет повторить это, - он чуть покусывает собственные губы, словно пытается воспроизвести те ощущения, что дарит ему жадный Вансберг. Краткое движение бедер и шумный выдох. – Мальчик сам решил, что не хочет, чтобы она возвращалась, - обе руки касаются свободно сидящей на нем рубашки, методично выдергивая из петель одну пуговку за другой. – Новая мама пробыла с мальчиком долго, но потом, став настоящей мамой, ей нужно было выбрать. Взяв за руку своего родного ребенка, она ушла, - Флетчер сбрасывает рубашку на пол и придвигается еще ближе, чтобы ощутить кожей тепло. Уткнувшись носом в шею Эриху, он медленно вдыхает его запах, который въелся под корку, и ведет до уха, губами обхватывая мочку, а после выдыхая на раковину. – Мальчик перестал желать, чтобы за ним вернулись, он захотел, чтобы от него не уходили, - обе ладони скользят по груди Вансберга, поднимаясь выше и обводя кончиками пальцев шею, в конце обрамив его лицо. Голубые глаза пристально взглянули в его, и Гидеон подался вперед, вовлекая Эриха в поцелуй. Такой долгий, тягучий, но вместе с тем настойчивый и жадный, не желающий отпускать ни на секунду. Такой, после которого не нужны никакие разговоры.


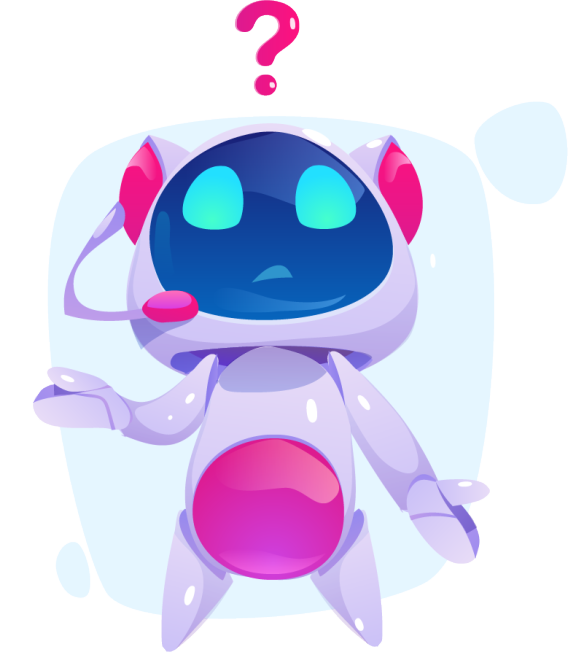
Не проблема! Введите адрес почты, чтобы получить ключ восстановления пароля.
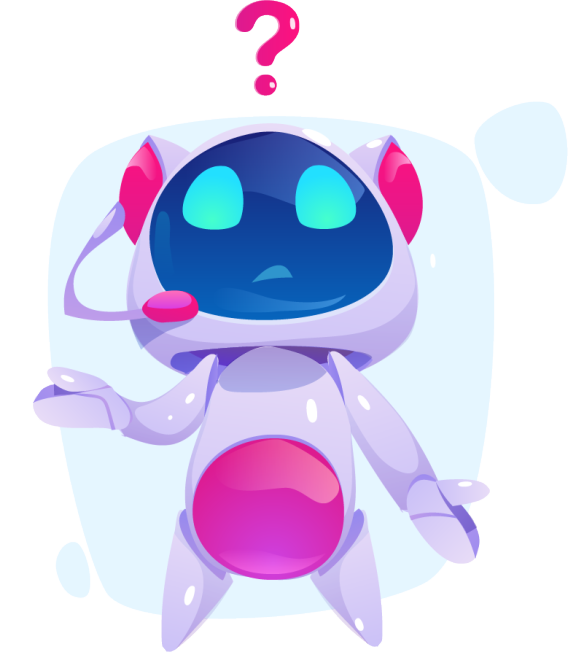
Код активации выслан на указанный вами электронный адрес, проверьте вашу почту.
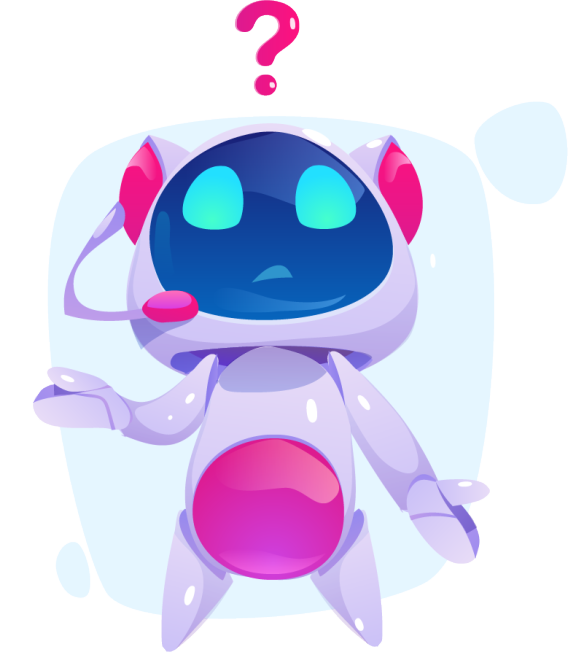
Код активации выслан на указанный вами электронный адрес, проверьте вашу почту.





-
леший
15 июля 2025 в 16:32:03



 Адриан Моракс происходит из рода, о котором давно перестали говорить вслух. Не из страха, а из уважения — слишком тонкой была грань, на которую они ступали, слишком бесшумной — их работа. Их называли шаманами-птицами, но это было лишь слабое приближение: на самом деле Мораксы не просто лечили или гадали, они стирали следы, стирали имена, запахи, прикосновения. Они не провожали души — они закрывали за ними дверь. Они не вызывали духов — они помогали живым забыть. Не резко, не насильно, а так, как вода стирает след от ладони на стекле: постепенно, почти ласково, до тех пор, пока не остаётся ничего, кроме облегчения. Память перестаёт царапать, боль уходит. И всё это — не молитвами, не ножами, а мягкой, мрачной магией, пахнущей пеплом и вороном крылом.
Адриан Моракс происходит из рода, о котором давно перестали говорить вслух. Не из страха, а из уважения — слишком тонкой была грань, на которую они ступали, слишком бесшумной — их работа. Их называли шаманами-птицами, но это было лишь слабое приближение: на самом деле Мораксы не просто лечили или гадали, они стирали следы, стирали имена, запахи, прикосновения. Они не провожали души — они закрывали за ними дверь. Они не вызывали духов — они помогали живым забыть. Не резко, не насильно, а так, как вода стирает след от ладони на стекле: постепенно, почти ласково, до тех пор, пока не остаётся ничего, кроме облегчения. Память перестаёт царапать, боль уходит. И всё это — не молитвами, не ножами, а мягкой, мрачной магией, пахнущей пеплом и вороном крылом.

 Он был единственным ребёнком в семье, которая никогда не стояла на месте. Их юрта не привязывалась к земле, одежда хранила запах пяти разных ветров, пища была простой, путь — долгим. Учился он на дому, по древним записям и устным заговорам. В детстве читал так много, что сны стали расплываться. Он слишком рано понял, что привязанности — это роскошь, которая не достаётся его роду. А друзья — это то, что случается с другими. Он молчал чаще, чем говорил, и только во время первых превращений в птицу — сначала неловких, болезненных — чувствовал, что живёт по-настоящему. Птичье тело было ему не просто удобным — оно было точным. Крылья не кричат. Они уносят.
Он был единственным ребёнком в семье, которая никогда не стояла на месте. Их юрта не привязывалась к земле, одежда хранила запах пяти разных ветров, пища была простой, путь — долгим. Учился он на дому, по древним записям и устным заговорам. В детстве читал так много, что сны стали расплываться. Он слишком рано понял, что привязанности — это роскошь, которая не достаётся его роду. А друзья — это то, что случается с другими. Он молчал чаще, чем говорил, и только во время первых превращений в птицу — сначала неловких, болезненных — чувствовал, что живёт по-настоящему. Птичье тело было ему не просто удобным — оно было точным. Крылья не кричат. Они уносят.

 Он умел работать с мёртвым и с живым, но однажды его пригласили к вдове — женщине, потерявшей мужа, но отказывающейся отпустить. Её сны были разорванными, её голос — звенел, как стеклянная нить, её глаза не видели настоящего. Она не хотела забывать — и это была её главная боль. Она держалась за каждую мелочь, как за якорь, и уже сама стояла между мирами. Ему предложили слишком соблазнительную сумму, чтобы спасти её жизнь. Адриан согласился. Он долго говорил, объяснял, дышал рядом. Он сделал всё, как умел: мягко, почти по-матерински, размыл грани, подёрнул их туманом, дал ей выйти из капкана памяти. Но результат её не исцелил. Он разозлил.
Он умел работать с мёртвым и с живым, но однажды его пригласили к вдове — женщине, потерявшей мужа, но отказывающейся отпустить. Её сны были разорванными, её голос — звенел, как стеклянная нить, её глаза не видели настоящего. Она не хотела забывать — и это была её главная боль. Она держалась за каждую мелочь, как за якорь, и уже сама стояла между мирами. Ему предложили слишком соблазнительную сумму, чтобы спасти её жизнь. Адриан согласился. Он долго говорил, объяснял, дышал рядом. Он сделал всё, как умел: мягко, почти по-матерински, размыл грани, подёрнул их туманом, дал ей выйти из капкана памяти. Но результат её не исцелил. Он разозлил.

 И тогда она прокляла. Не выкриком, не театрально — просто так, как выговариваются тяжёлые слова у гроба. Её проклятие было точным, почти научным: «Ты забудешь того, кому отдашь своё сердце, с кем захочешь завести семью. Не сразу, не резко. Постепенно. День за днём. Пока от него не останется ничего».
И тогда она прокляла. Не выкриком, не театрально — просто так, как выговариваются тяжёлые слова у гроба. Её проклятие было точным, почти научным: «Ты забудешь того, кому отдашь своё сердце, с кем захочешь завести семью. Не сразу, не резко. Постепенно. День за днём. Пока от него не останется ничего».

 Сначала он не поверил. Потом испугался. Потом — научился узнавать проклятие в мелочах: один раз он не вспомнил имя, другой — забыл цвет глаз, третий — проснулся в доме и не понял, чья подушка рядом. Образ любимого человека размывался сначала в отсутствии, потом — в присутствии. И однажды он осознал: если он кого-то полюбит по-настоящему — он потеряет. Не смертью, не упрёком, а собственным забвением. И это будет не предательство. Это будет результат. Теперь он держал дистанцию. Теперь он был один.
Сначала он не поверил. Потом испугался. Потом — научился узнавать проклятие в мелочах: один раз он не вспомнил имя, другой — забыл цвет глаз, третий — проснулся в доме и не понял, чья подушка рядом. Образ любимого человека размывался сначала в отсутствии, потом — в присутствии. И однажды он осознал: если он кого-то полюбит по-настоящему — он потеряет. Не смертью, не упрёком, а собственным забвением. И это будет не предательство. Это будет результат. Теперь он держал дистанцию. Теперь он был один.

 Он поселился на Буяне. Его не найдёшь на карте, но туда приходят. Дом Адриан построил сам, из старого дерева, которое хранило запах грома, из железа, которое помнило руки. Стены были толстыми, окна — закопчёнными, воздух — плотным, как обещание. Теперь он работал только с теми, кто просил. Добровольно. Без отчаяния. Без требования вернуть. Он вытирал память, как промокашка — чернила: не больно, не сразу, но безвозвратно. Его работа не приносила радости — только тишину. А иногда — покой.
Он поселился на Буяне. Его не найдёшь на карте, но туда приходят. Дом Адриан построил сам, из старого дерева, которое хранило запах грома, из железа, которое помнило руки. Стены были толстыми, окна — закопчёнными, воздух — плотным, как обещание. Теперь он работал только с теми, кто просил. Добровольно. Без отчаяния. Без требования вернуть. Он вытирал память, как промокашка — чернила: не больно, не сразу, но безвозвратно. Его работа не приносила радости — только тишину. А иногда — покой.

 С ним живёт домовой по имени Мячин — взлохмаченный, круглый, вечно с пледом на плечах. Он достался Адриану от старой женщины, которую тот провёл «туда». Женщина ушла, а домовой остался — сначала прятался, потом начал варить кашу, а потом уже и спорить. Мячин ворчливый, но честный: он поправляет скатерть, если она лежит не так, разговаривает с кошкой и раз в неделю складывает письма, которые никто не писал. Он называл Адриана «мастерушка» и считает себя главным в доме, но по ночам иногда заходит в спальню просто постоять рядом — и уходит, ничего не сказав.
С ним живёт домовой по имени Мячин — взлохмаченный, круглый, вечно с пледом на плечах. Он достался Адриану от старой женщины, которую тот провёл «туда». Женщина ушла, а домовой остался — сначала прятался, потом начал варить кашу, а потом уже и спорить. Мячин ворчливый, но честный: он поправляет скатерть, если она лежит не так, разговаривает с кошкой и раз в неделю складывает письма, которые никто не писал. Он называл Адриана «мастерушка» и считает себя главным в доме, но по ночам иногда заходит в спальню просто постоять рядом — и уходит, ничего не сказав.

 В бане у Адриана живёт Ермолай — банник с длинной памятью и руками, пахнущими корой и хмелем. Он не любит людей, зато обожает пар. Он не говорит, но в его тишине можно было услышать всё, что не помещалось в словах. Иногда он приходит, когда Адриану тяжело: пар густеет, становится липким, обволакивающим, и будто гладит по затылку. Ермолай не требует соли, не бросает кипяток, не строит из себя старшего. Он просто рядом, как тёплая ладонь, которую не нужно просить.
В бане у Адриана живёт Ермолай — банник с длинной памятью и руками, пахнущими корой и хмелем. Он не любит людей, зато обожает пар. Он не говорит, но в его тишине можно было услышать всё, что не помещалось в словах. Иногда он приходит, когда Адриану тяжело: пар густеет, становится липким, обволакивающим, и будто гладит по затылку. Ермолай не требует соли, не бросает кипяток, не строит из себя старшего. Он просто рядом, как тёплая ладонь, которую не нужно просить.

 Белая кошка пришла сама. Её назвали Молчанка. Она сидит на подоконнике, наблюдает за птицами и шевелит ушами так, как будто слушает чью-то речь, доносившуюся из других миров. Она не спит в ногах — только на груди у Адриана.
Белая кошка пришла сама. Её назвали Молчанка. Она сидит на подоконнике, наблюдает за птицами и шевелит ушами так, как будто слушает чью-то речь, доносившуюся из других миров. Она не спит в ногах — только на груди у Адриана.

 Когда Адриан возвращается домой, он всегда говорит: «Я дома». Всегда. Даже если никого нет. Потому что воздух после этих слов становится плотнее, как будто дом отвечает. Как будто даже если все лица будут забыты, даже если проклятие снова сотрёт чью-то важную улыбку — это место его помнит.
Когда Адриан возвращается домой, он всегда говорит: «Я дома». Всегда. Даже если никого нет. Потому что воздух после этих слов становится плотнее, как будто дом отвечает. Как будто даже если все лица будут забыты, даже если проклятие снова сотрёт чью-то важную улыбку — это место его помнит.

 Но на Буяне Адриан теперь не один — и, честно говоря, никогда не бывает. Дом его порой напоминает не обитель шамана, а богемную берлогу, в которую сбегаются всякие странные существа. Он завёл себе друзей самых неожиданных — и весьма привязался к ним.
Но на Буяне Адриан теперь не один — и, честно говоря, никогда не бывает. Дом его порой напоминает не обитель шамана, а богемную берлогу, в которую сбегаются всякие странные существа. Он завёл себе друзей самых неожиданных — и весьма привязался к ним.

 Рома Рыжий — плотник с кривым прикусом, руками, как пни, и голосом, как у старой виолы. Его хлебом не корми — дай что-нибудь выстругать. Он может молча часами вытачивать дверную ручку в форме рогатки или стол с ножками, как у старой козы. Обожает шутки, которые понимает только он сам, и кофе с солью. У него есть привычка перед сном громко благодарить весь дом — отдельно крышу, пол, каждую ступеньку и ручку. Считает, что дереву приятно. И, возможно, прав.
Рома Рыжий — плотник с кривым прикусом, руками, как пни, и голосом, как у старой виолы. Его хлебом не корми — дай что-нибудь выстругать. Он может молча часами вытачивать дверную ручку в форме рогатки или стол с ножками, как у старой козы. Обожает шутки, которые понимает только он сам, и кофе с солью. У него есть привычка перед сном громко благодарить весь дом — отдельно крышу, пол, каждую ступеньку и ручку. Считает, что дереву приятно. И, возможно, прав.

 Варя по прозвищу Утёс — бывшая геологиня, ушедшая в травничество. Крупная, тяжёлая, всегда пахнет зверобоем и сырой землёй. Если не знаешь, можно принять за ведьму, но на деле — воплощённое спокойствие. Варя умеет молча сидеть рядом, пока ты не расплачешься, и только тогда сказать: «А теперь давай чаю, ага?». У неё кошка по имени Жора, которая считает себя собакой, и страсть к вязанию свитеров. Один из них она связала Адриану своими руками.
Варя по прозвищу Утёс — бывшая геологиня, ушедшая в травничество. Крупная, тяжёлая, всегда пахнет зверобоем и сырой землёй. Если не знаешь, можно принять за ведьму, но на деле — воплощённое спокойствие. Варя умеет молча сидеть рядом, пока ты не расплачешься, и только тогда сказать: «А теперь давай чаю, ага?». У неё кошка по имени Жора, которая считает себя собакой, и страсть к вязанию свитеров. Один из них она связала Адриану своими руками.

 Илья Звонкий — деревенский певец. Живёт один, но никогда не одинок: его друзья — радио, граммофон, старые пластинки и дети соседей. Ходит в вышитой рубашке, поёт всем подряд и сочиняет песни, в которых то и дело всплывают строчки про Адриана — смешные, пронзительные, нежные. Знает тысячу колыбельных и пять тысяч проклятий, но пользуется только первыми.
Илья Звонкий — деревенский певец. Живёт один, но никогда не одинок: его друзья — радио, граммофон, старые пластинки и дети соседей. Ходит в вышитой рубашке, поёт всем подряд и сочиняет песни, в которых то и дело всплывают строчки про Адриана — смешные, пронзительные, нежные. Знает тысячу колыбельных и пять тысяч проклятий, но пользуется только первыми.

 Нина Лаванда — прачка. Она знает, у кого тоска в сердце, а кто просто объелся черникой. Весёлая, пахнет стиркой и лимоном, смеётся как ведро, полное ложек. Обожает танцы под аккордеон и спорит со всеми.
Нина Лаванда — прачка. Она знает, у кого тоска в сердце, а кто просто объелся черникой. Весёлая, пахнет стиркой и лимоном, смеётся как ведро, полное ложек. Обожает танцы под аккордеон и спорит со всеми.

 Они собираются у Адриана не по расписанию, а как само собой. Кто-то приносит хлеб, кто-то — свои домашние настойки, кто-то просто падает на диван, как дома, и говорит:
Они собираются у Адриана не по расписанию, а как само собой. Кто-то приносит хлеб, кто-то — свои домашние настойки, кто-то просто падает на диван, как дома, и говорит:

 Адриан не ищет спасения. Он не строит заговоры, не умоляет богов, не читает забытые проклятия вслух. Он просто живёт. Варит отвары, стирает имена, выдыхает чужую боль. И иногда — в утреннем свете, когда пар от дыхания ещё дрожит, как паутина, — он поднимает глаза к небу и чувствует, как внутри что-то щёлкает. Как будто где-то в нём пробуждается чужая тень. Образ. Лицо. Имя. И он шепчет его, почти беззвучно, и гладит Молчанку, и ждёт. До тех пор, пока не исчезнет снова.
Адриан не ищет спасения. Он не строит заговоры, не умоляет богов, не читает забытые проклятия вслух. Он просто живёт. Варит отвары, стирает имена, выдыхает чужую боль. И иногда — в утреннем свете, когда пар от дыхания ещё дрожит, как паутина, — он поднимает глаза к небу и чувствует, как внутри что-то щёлкает. Как будто где-то в нём пробуждается чужая тень. Образ. Лицо. Имя. И он шепчет его, почти беззвучно, и гладит Молчанку, и ждёт. До тех пор, пока не исчезнет снова.
-
леший
27 октября 2025 в 8:20:27


Показать предыдущие сообщения (50)30 лет · забвенник · никель · соколиный глаз
✶ Адриан Моракс
— Ты украл, — сказала она, глядя на него глазами, в которых уже ничего не отражалось. — Ты стёр мою любовь.
— Моракс, ты знаешь, я сегодня опять подумал, что все вокруг нас ненормальные. Это нормально?
перстень:
соколиный глаз — камень памяти, что отходит, будто прилив. Он не держит в себе свет — он отражает его, чуть искажая, как зеркало, запотевшее от дыхания. Этот камень не для тех, кто хочет помнить. Он — для тех, кто должен забыть. Его выбирают не по воле — по необходимости. Он будто понимает: не всё прошлое нужно беречь, не каждая любовь — дар.
Соколиный глаз даёт не силу, а пустоту — ту, в которой не больно. Он помогает не кричать, когда исчезает что-то важное. Он учит отпускать даже то, что не хочется отпускать. В магии усиливает интуицию, помогает работать с переходами между мирами, облегчает ритуалы прощания. Он не греет, но и не жжёт — просто становится рядом, когда приходит конец.
никель — металл заброшенных мест, ржавых петель, дверей, что скрипят во снах. В нём нет сияния золота, ни уверенности стали. Он будто сам не до конца верит в себя, и потому верен только тем, кто тоже сомневается. Никель носят не герои — а странники, алхимики, те, кто бродит между мирами и не называет себя по имени.
Он усиливает тонкие сигналы, проводит магию воспоминаний и предчувствий. Не любит ярости и напора — лучше всего работает с теми, кто говорит полушёпотом. Он упрям, как кошка: не служит, но принимает. Не навязывает силу — даёт способ её пережить.
вместе соколиный глаз и никель — союз утраты и стойкости. Такой перстень не говорит: «я с тобой» — он просто остаётся. Он не обещает, не уговаривает, не требует — лишь дышит рядом. Он не вылечит — но поможет не умереть от боли. Его не передают по наследству, он сам выбирает, кому быть опорой.
этот перстень принадлежит Адриану Мораксу — тому, кто каждую потерю носит, как тень на руке. Он не держит памяти о любимых — но в каждом его взгляде прячется след чьего-то лица. Его магия тиха, как снег. Его сердце — будто забытая песня: не споёшь, но помнишь мелодию. Этот перстень не придаст ему силы. Он просто не даст ему исчезнуть.
альбом
рори
[ CAIN
CAIN  ]
]
u r b a n s u m m e r
✹ Urban summer — влажный асфальт, неоновые отражения, лёгкая небрежность и эстетика улиц. Жаркие дни и тёплые ночи, динамика города, немного меланхолии и готовность к неожиданным встречам. Комфортный стритсет; светодиодные ленты, неоновые таблички и уличные растения в бетонных кашпо; холодный кофе или matcha латте; уличная еда; люди в переходах; отражение в витринах; уличная граффити; уличная лампочка ночью; The Weekend, MØ; лёгкая ветровка на поясе, много карманов и солнцезащитные очки; термос и пледы с графическим принтом.
💜