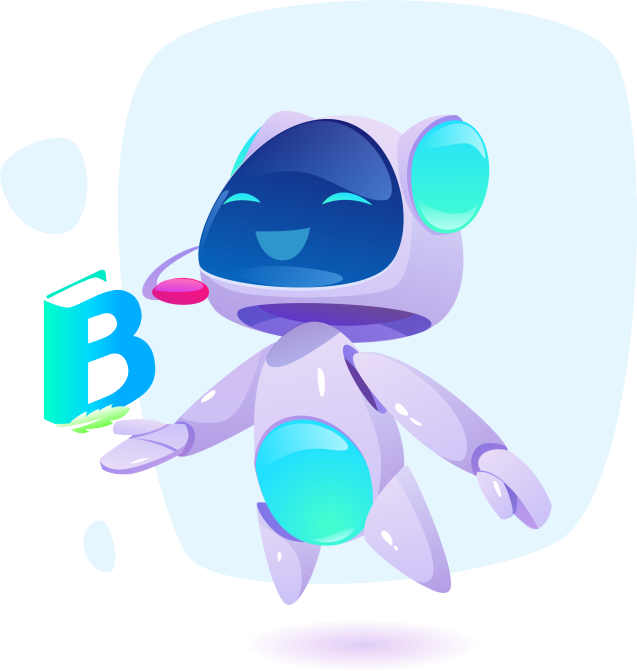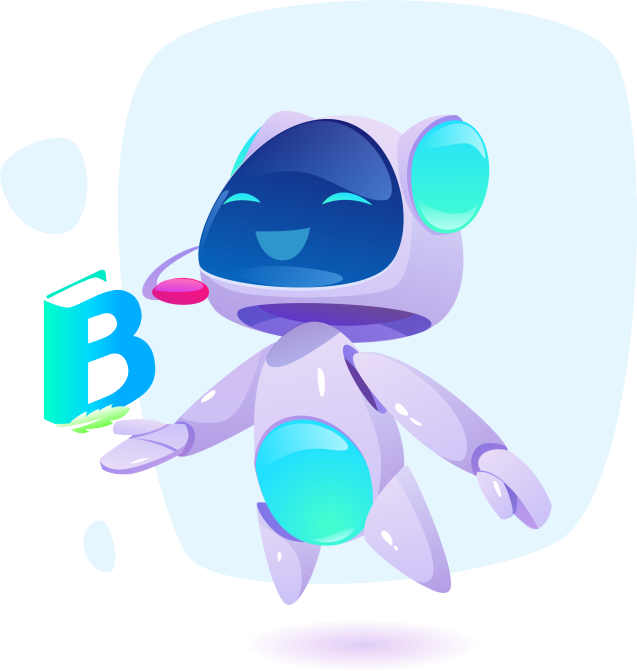Да, я же забыл рассказать о том, что забрал свой заказ. Ремешок для часов к сожалению не подошёл к моим часам (хотя он и подходит по ширине, но надеть его на часы с обеих сторон (как верхней, так и нижней), и носить этот ремешок с часами невозможно. Там только с одной (верхней стороны) есть крепление к часам, а с нижней нет. Ладно, раз уж купил, возвращать/выкидывать не буду, может в будущем этот ремешок понадобится для чего-то другого (для каких-нибудь других часов).
С другими покупками повезло больше (штатив пока не успел использовать и оценить). Но надеюсь, что проблем с ним не будет, и что я смогу с ним сделать то, что уже давно планировал. Плёнку на Infinix мне наклеили. Всё хорошо получилось. Сейчас надел новый (зелёный) чехол, попользовался смартфоном, проверил всё (как работает, как отрабатывают касания). Всё хорошо теперь. Да, теперь я понял, почему с экраном-"водопадом" у меня были проблемы (с нажатием на сенсор, он часто не откликался, особенно если я по краям нажимал). Дело тут не в самом экране-"водопаде", а в моей криворукости (стекло, входившее в комплект, я плохо и ненадёжно наклеил, поэтому у меня и были такие проблемы с экраном, особенно ещё когда я надевал чехол).
Infinix Zero 40 5G я оставлю. Да, там нет отдельного разговорного динамика (о чём понял лишь на днях), но зато очень хорошие камеры, процессор и производительность (в т.ч. для игр на Android). И память 512 Гб. Да, конечно были ранее случаи сильного нагрева (во время загрузки игр, или прохождения бенчмарков), но последние дни такого не наблюдал. Раз уж во всём разобрался, то оставлю смартфон себе (для камер и игр).