


здесь свет выключается — и включаюсь я. фрагменты жизни, ролевого, любви к фразам и мужчинам из текста
Был(а) в сети 7 часов назад
Слова прозвучали резко, грубо, сродни хлесткой пощечине. Артём дёрнулся, будто Руслана действительно хлестнула по нему полотенцем, и поднял на женщину взгляд.
Она впервые столкнулась с ним. Тяжёлый, прямой, давящий. Не тот, с которым Артём драл её на заднем сидении машины или в ванной, пялясь в зеркало. От этого хотелось сжаться, спрятаться, выпалить всю правду, только бы не смотрели.
Руслана внутренне сжалась, позволяя себе мимолетную расстерянность на лице, но уже через мгновение взяла над страхом вверх. Руки под грудью сжались сильнее, подбородок вздернулся, а люстра под потолком выдала неменее опасный блеск в глазах женщины.
- Не гони ерунду, - буркнул Артём и голос получился тихим, будто он выцеживал слова сквозь зубы. - Если бы дело было только в "члене", я бы у тебя не торчал с проблемами, а прибегал бы иногда перепехнуться, и всё. Ты это знаешь.
- Не ори, - зашипела Руслана, выпучивая глаза.
Ей хотелось бросить едкое, острое: "А разве ты не прибегаешь перепихнуться? Не было такого?", но язык не слушался. Не слушался, потому что женщина понимала - всё не так, неправда. Сразу же вспомнила, как Артём возился с Юлькой во время болезни. Прикинула сколько раз он забирал её из сада и не просто доводил до дома, а умудрялся накормить и дождаться Руслану.
- Не ори, - повторила женщина, но уже спокойнее, будто приказывала не только ему, а ещё и себе.
Они замолчали, а искры продолжали летать по кухне, когда взгляды то сталкивались, то неловко убегали в сторону.
- Я не про это. Я про то, что ты сейчас бьёшь не туда. Я не хотел тебя опозорить. Я...
Руслана нервно рассмеялась.
- Что "ты"? - язвительно переспросила она.
- Я по-дурацки решил, что если я не делаю из нас тайну, то это как раз нормально. Что это... лучше, чем врать. Не, а чё, когда-нибудь про нас узнали бы, или мы до пенсии будем делать вид, что ничего не происходит?
- Нормально? Нормально?! По-твоему нормально рассказывать всем, что ты здесь "чай пьешь" на постоянной основе?
Руслана замерла и мысленно приказала себе: "Дыши!".
- Узнали бы, - повторила она. - А если нет? Никто даже и близко не думал, что у нас...чай и кино.
Последние слова с двойным дном дались тяжело. Хотелось ведь не только этого, а простого, женского - семью: человека, с которым можно просто в обнимку, свадьбу, ещё одного ребёнка, чёртов переезд из этой вечной мерзлоты.
Артём шагнул к ней навстречу, а Руслана даже не шелохнулась: ни приблизилась, ни оттолкнула, а только разрешила быть между двумя этими фазами.
- Скажи мне одну вещь, - прошептал Артём. - Ты щас бесишься, потому что теперь все в курсе, что у нас роман, или потому что эти говнюки базарят лишнее?
Геремеева опять нервно рассмеялась, а затем её губы сложились и из них вылетело прололжительное, едкое "о-о-о!". Желчь так и распирала изнутри, и Руслана была готова низвернгнуть ту на Артёма, но он перебил.
- И да, прежде чем ты меня ещё раз пошлёшь, - голос у него был сухой, констатация факта, не больше. - Я не говорю, что ты зря злишься. Злишься ты как раз по делу. Я просто...
Я, похоже, только сейчас наконец понял, на что именно ты злишься.
Теперь настала очередь Русланы дёрнуться. Глаза прищурились, когда она посмотрела на мужчину. "Что же ты понял?" - подумала она.
- Удиви, - бросила женщина.
Геремеева встала боком, чтобы было лучше видно Артёма, а затем сделала шаг к нему - небольшой, почти кокетливый.
- Давай, расскажи, что ты там понял. Если у нас милиция научилась ещё и женщин понимать, а не только преступников, я попрошу Юльку тебе медальку нарисовать.
Сказала едко, с наездом и какой-то надеждой, что он не догадывался про её чувства к нему, которые, очевидно, не сходились у них.
- Не ори.

 Когда Руслана зашипела, Артём осёкся так резко, будто ему не слово сказали, а ладонью рот прикрыли. Воздух ещё стоял в груди, злой, горячий, готовый выйти следующей фразой, но он проглотил его, резко скосил взгляд на дверь и замер на полсекунды, прислушиваясь. Это движение вышло у него почти звериным, выученным: сначала проверить, не долетело ли до детской, не шевельнулась ли тишина, не пошёл ли по квартире тот самый звук, после которого всё летит к чёрту. Лицо у него в этот миг стало жёстче, старше, а раздражение, поднявшееся было на Руслану за её тон, сменило русло и ушло в другое место, более трезвое: да, он действительно повысил голос, а она сейчас не истеричка, а женщина, у которой за стеной спит ребёнок.
Когда Руслана зашипела, Артём осёкся так резко, будто ему не слово сказали, а ладонью рот прикрыли. Воздух ещё стоял в груди, злой, горячий, готовый выйти следующей фразой, но он проглотил его, резко скосил взгляд на дверь и замер на полсекунды, прислушиваясь. Это движение вышло у него почти звериным, выученным: сначала проверить, не долетело ли до детской, не шевельнулась ли тишина, не пошёл ли по квартире тот самый звук, после которого всё летит к чёрту. Лицо у него в этот миг стало жёстче, старше, а раздражение, поднявшееся было на Руслану за её тон, сменило русло и ушло в другое место, более трезвое: да, он действительно повысил голос, а она сейчас не истеричка, а женщина, у которой за стеной спит ребёнок.
- Не ори.

 Когда она повторила это уже спокойнее, Артём услышал в этой второй реплике больше, чем в первой, и это, как назло, укололо сильнее. Он кивнул коротко, и сам тоже заставил голос опуститься ниже, чтобы дальше слова не резали воздух.
Когда она повторила это уже спокойнее, Артём услышал в этой второй реплике больше, чем в первой, и это, как назло, укололо сильнее. Он кивнул коротко, и сам тоже заставил голос опуститься ниже, чтобы дальше слова не резали воздух.

 Они замолчали, и молчание у них получилось не спасительное, а колючее, с искрами по углам. Артём выдерживал его, как выдерживают сквозняк через щель: не потому что приятно, а потому что деваться некуда. Он то смотрел на Руслану прямо, не отводя глаз, то сам же первым уводил взгляд в сторону, в кружку, в край стола, в свои пальцы, только бы не дать этому взгляду превратиться в ещё одну форму давления. Внутри у него всё ещё было натянуто, как проволока. Он злился, но уже не в лоб, не тупо. И злился не только на неё. На себя. На отдел. На свой длинный язык. На то, что самый простой и, как ему казалось, честный жест в итоге вывернулся против неё так быстро и так гадко. Когда Руслана нервно рассмеялась, Артём дёрнулся почти незаметно: этот смех был хуже крика. В крике хотя бы всё честно. А здесь смех звучал так, будто у человека внутри уже болит, просто он ещё не решил, плакать ему или резать.
Они замолчали, и молчание у них получилось не спасительное, а колючее, с искрами по углам. Артём выдерживал его, как выдерживают сквозняк через щель: не потому что приятно, а потому что деваться некуда. Он то смотрел на Руслану прямо, не отводя глаз, то сам же первым уводил взгляд в сторону, в кружку, в край стола, в свои пальцы, только бы не дать этому взгляду превратиться в ещё одну форму давления. Внутри у него всё ещё было натянуто, как проволока. Он злился, но уже не в лоб, не тупо. И злился не только на неё. На себя. На отдел. На свой длинный язык. На то, что самый простой и, как ему казалось, честный жест в итоге вывернулся против неё так быстро и так гадко. Когда Руслана нервно рассмеялась, Артём дёрнулся почти незаметно: этот смех был хуже крика. В крике хотя бы всё честно. А здесь смех звучал так, будто у человека внутри уже болит, просто он ещё не решил, плакать ему или резать.
- Что "ты"? - язвительно переспросила она.

 Её язвительность ударила точно туда, куда она и целилась. Артём сначала хотел перебить, вставить своё жёсткое "не передёргивай", но сдержался и дал ей договорить.
Её язвительность ударила точно туда, куда она и целилась. Артём сначала хотел перебить, вставить своё жёсткое "не передёргивай", но сдержался и дал ей договорить.
- Нормально? Нормально?! По-твоему нормально рассказывать всем, что ты здесь "чай пьешь" на постоянной основе?

 И чем дольше она говорила про то, что он всем рассказывает, будто тут чай пьёт на постоянной основе, тем сильнее у него менялось лицо. Не в сторону мягкости, нет. В сторону очень неприятного уязвления, когда тебя обвиняют не в том, что ты сделал, а в том, что сделал ты это по дешёвой, сальной причине. Он смотрел на Руслану уже без прежнего горячего нажима, а внимательно, даже тяжело, словно пытался понять, правда ли она сейчас настолько низкого мнения о нём, или это просто её ярость говорит грязнее, чем думает она сама. В конце он всё-таки не выдержал и ответил, но голос удержал ровным, только чуть суше, чем надо, а потому опаснее.
И чем дольше она говорила про то, что он всем рассказывает, будто тут чай пьёт на постоянной основе, тем сильнее у него менялось лицо. Не в сторону мягкости, нет. В сторону очень неприятного уязвления, когда тебя обвиняют не в том, что ты сделал, а в том, что сделал ты это по дешёвой, сальной причине. Он смотрел на Руслану уже без прежнего горячего нажима, а внимательно, даже тяжело, словно пытался понять, правда ли она сейчас настолько низкого мнения о нём, или это просто её ярость говорит грязнее, чем думает она сама. В конце он всё-таки не выдержал и ответил, но голос удержал ровным, только чуть суше, чем надо, а потому опаснее.
- Ты вот реально такого мнения обо мне? - спросил он тихо, и в этом "реально" было больше обиды, чем он сам хотел бы показать. - Думаешь, я хожу и по углам с серьёзной рожей докладываю, у кого я чай пью и на какой основе? Прям с графиком посещений, блять?

 Он зло усмехнулся сам себе, но усмешка вышла пустая, без веселья, и тут же стёрлась. Ему пришлось продолжать, хотя каждое следующее слово уже заранее звучало у него в голове как оправдание, а оправдываться он не умел и терпеть этого в себе не мог.
Он зло усмехнулся сам себе, но усмешка вышла пустая, без веселья, и тут же стёрлась. Ему пришлось продолжать, хотя каждое следующее слово уже заранее звучало у него в голове как оправдание, а оправдываться он не умел и терпеть этого в себе не мог.
- Было так, как было, - сказал он уже жёстче, не потому что хотел надавить, а потому что иначе бы сорвался в совсем ненужную сейчас мягкость. - Утро. Телефон. Я спросонья взял трубку и ляпнул, кто я, а звонили с работы тебе. Не потому что решил устроить праздник откровенности. Не потому что хотел кого-то порадовать новостями. А потому что у меня, сука, работа так в башке сидит. Звонит дежурка - я отвечаю на автомате. И уже потом соображаю, что сказал. Звучит как херовое враньё? Понимаю. Но это не враньё. Так и было.
- Узнали бы. А если нет? Никто даже и близко не думал, что у нас...чай и кино.

 Артёма будто в грудь толкнули чем-то тяжёлым и тупым. Не так, чтобы он развалился снаружи, он был не из тех, кто красиво белеет и хватается за сердце, но удар он принял телом целиком. Сначала у него даже не лицо изменилось, а осанка: плечи чуть осели, будто он неожиданно вспомнил про вес собственных костей.
Артёма будто в грудь толкнули чем-то тяжёлым и тупым. Не так, чтобы он развалился снаружи, он был не из тех, кто красиво белеет и хватается за сердце, но удар он принял телом целиком. Сначала у него даже не лицо изменилось, а осанка: плечи чуть осели, будто он неожиданно вспомнил про вес собственных костей.

 Он действительно думал, что всё между ними идёт не к "чаю и кино". Не к глупой интрижке, не к тому, что потом можно объяснить сухо и удобно. Он не давал себе громких слов, не лепил внутри "любовь" как идиот-подросток, но, чёрт возьми, он думал, что там есть чувства, что это не только ему не всё равно. А теперь из её рта это прозвучало так, будто между ними максимум что-то, о чём можно шутить с кривой улыбкой и потом вычеркнуть. И именно от этого он не шагнул к ней, как собирался, а наоборот, отошёл и снова сел, почти резко, на прежнее место, создавая между ними зазор. Не картинный, не демонстративный, а мужской, тупой и очень понятный: если сейчас стоять близко, можно сказать лишнее. Он сел, упёрся локтем в колено, на секунду опустил голову и медленно провёл ладонью по рту, будто стирал с лица всё то, что не имело права на нём проступать.
Он действительно думал, что всё между ними идёт не к "чаю и кино". Не к глупой интрижке, не к тому, что потом можно объяснить сухо и удобно. Он не давал себе громких слов, не лепил внутри "любовь" как идиот-подросток, но, чёрт возьми, он думал, что там есть чувства, что это не только ему не всё равно. А теперь из её рта это прозвучало так, будто между ними максимум что-то, о чём можно шутить с кривой улыбкой и потом вычеркнуть. И именно от этого он не шагнул к ней, как собирался, а наоборот, отошёл и снова сел, почти резко, на прежнее место, создавая между ними зазор. Не картинный, не демонстративный, а мужской, тупой и очень понятный: если сейчас стоять близко, можно сказать лишнее. Он сел, упёрся локтем в колено, на секунду опустил голову и медленно провёл ладонью по рту, будто стирал с лица всё то, что не имело права на нём проступать.

 Он молчал дольше, чем было удобно. Глотал их желчь, и этот перерыв не был пустым. В нём Артём успевал злиться, одёргивать себя, снова злиться и снова одёргивать. Да, его задело. Очень. Да, ему хотелось сейчас ответить в лоб, что для него это было не "чай и кино", и если для неё только это, могла бы сказать раньше. Но он тут же сам себя поймал: а с какого, собственно, хера? Она ему ничего не обещала. Не клялась. Не расписывалась кровью под его ожиданиями. И злиться на неё за то, что он внутри себе достроил нечто большее, было бы уже настоящим свинством. Это понимание не успокоило. Оно только сделало злость тяжелее, потому что девать её было некуда.
Он молчал дольше, чем было удобно. Глотал их желчь, и этот перерыв не был пустым. В нём Артём успевал злиться, одёргивать себя, снова злиться и снова одёргивать. Да, его задело. Очень. Да, ему хотелось сейчас ответить в лоб, что для него это было не "чай и кино", и если для неё только это, могла бы сказать раньше. Но он тут же сам себя поймал: а с какого, собственно, хера? Она ему ничего не обещала. Не клялась. Не расписывалась кровью под его ожиданиями. И злиться на неё за то, что он внутри себе достроил нечто большее, было бы уже настоящим свинством. Это понимание не успокоило. Оно только сделало злость тяжелее, потому что девать её было некуда.

 Когда Руслана нервно рассмеялась на его вопрос про роман и базарящих говнюков, а потом выдала это длинное, едкое "о-о-о!", Артём медленно поднял на неё глаза. Теперь в них было уже меньше сиюминутного раздражения и больше усталой, тёмной внимательности.
Когда Руслана нервно рассмеялась на его вопрос про роман и базарящих говнюков, а потом выдала это длинное, едкое "о-о-о!", Артём медленно поднял на неё глаза. Теперь в них было уже меньше сиюминутного раздражения и больше усталой, тёмной внимательности.
- Удиви.

 Когда она встала боком и сделала к нему этот небольшой шаг, почти кокетливый, Артём отреагировал не движением навстречу, а наоборот, внутренним напряжением: захотелось потянуться к ней немедленно, взять за локоть, встряхнуть, сказать не играть. Не потому что ему не понравилась эта почти кокетливость, а потому что она была слишком опасной. Слишком легко было ответить на неё телом и окончательно потерять разговор. Он остался сидеть, только поднял голову так, чтобы смотреть на неё снизу вверх без подчинения, а скорее с жёстким вниманием, как смотрят на человека, которого и хочется понять, и хочется придушить за один особенно удачный укол.
Когда она встала боком и сделала к нему этот небольшой шаг, почти кокетливый, Артём отреагировал не движением навстречу, а наоборот, внутренним напряжением: захотелось потянуться к ней немедленно, взять за локоть, встряхнуть, сказать не играть. Не потому что ему не понравилась эта почти кокетливость, а потому что она была слишком опасной. Слишком легко было ответить на неё телом и окончательно потерять разговор. Он остался сидеть, только поднял голову так, чтобы смотреть на неё снизу вверх без подчинения, а скорее с жёстким вниманием, как смотрят на человека, которого и хочется понять, и хочется придушить за один особенно удачный укол.
- Давай, расскажи, что ты там понял. Если у нас милиция научилась ещё и женщин понимать, а не только преступников, я попрошу Юльку тебе медальку нарисовать.

 Её шпилька заставила его зло выдохнуть через нос. Угол рта дёрнулся, но не в улыбку, а в какую-то усталую, почти сердитую гримасу. Он выдержал паузу, не торопясь с ответом, и в этой паузе было слышно, как он отбрасывает первое, второе и третье, слишком грубое, прежде чем сказать хоть что-то. Потом он опёрся локтем о стол, чуть подался вперёд и заговорил уже тише, но плотнее, без красивостей, без попытки быть хорошим.
Её шпилька заставила его зло выдохнуть через нос. Угол рта дёрнулся, но не в улыбку, а в какую-то усталую, почти сердитую гримасу. Он выдержал паузу, не торопясь с ответом, и в этой паузе было слышно, как он отбрасывает первое, второе и третье, слишком грубое, прежде чем сказать хоть что-то. Потом он опёрся локтем о стол, чуть подался вперёд и заговорил уже тише, но плотнее, без красивостей, без попытки быть хорошим.
- Ладно. Удивляю, - произнёс он ровно. - Сплетни пошли, да? Треплются?

 Он замолчал на секунду, перевёл взгляд в сторону, словно досматривая собственную мысль до конца, а потом вернул его обратно, теперь уже прямо ей в лицо.
Он замолчал на секунду, перевёл взгляд в сторону, словно досматривая собственную мысль до конца, а потом вернул его обратно, теперь уже прямо ей в лицо.
- Наверно, ты не слышала тот разговор утром. Иначе вспыхнула бы ещё тогда и не думала, что я хвалюсь на работе. Какой-то длинный язык решил, будто может жрать твою жизнь на обеде. И тут мне уже плевать, как ты сама это называешь - кино, роман, дурость, ошибка. Даже если для тебя это просто чёртов чай, у этих глоток всё равно нет права болтать.

 Он сказал это и понял, что впервые за весь разговор злость у него полностью сменила адрес. Не на неё. Не на её слова. Даже не на своё задетое мужское. На тех, кто позволил себе разносить это по отделу. Он слишком хорошо знал, как так работает среда, как быстро одинокой женщине начинают приписывать всё сразу: голод, расчёт, "пристроилась", "наконец-то", "ну а что ей ещё". И ребёнок там всегда идёт следом не ребёнком, а приложением. Слово "довесок" снова вспыхнуло в памяти, и Артём ощутил очень холодное, очень конкретное желание кому-нибудь сломать лицо. Не красивое чувство, но честное.
Он сказал это и понял, что впервые за весь разговор злость у него полностью сменила адрес. Не на неё. Не на её слова. Даже не на своё задетое мужское. На тех, кто позволил себе разносить это по отделу. Он слишком хорошо знал, как так работает среда, как быстро одинокой женщине начинают приписывать всё сразу: голод, расчёт, "пристроилась", "наконец-то", "ну а что ей ещё". И ребёнок там всегда идёт следом не ребёнком, а приложением. Слово "довесок" снова вспыхнуло в памяти, и Артём ощутил очень холодное, очень конкретное желание кому-нибудь сломать лицо. Не красивое чувство, но честное.

 Он снова посмотрел на Руслану и теперь уже спросил прямо, без кружев, без удобных обходов, потому что дальше юлить было бы просто трусостью.
Он снова посмотрел на Руслану и теперь уже спросил прямо, без кружев, без удобных обходов, потому что дальше юлить было бы просто трусостью.
- Кто сказал? - тихо спросил он. - Конкретно. Чей рот?

 И тут же, почти сразу, потому что понял, как это может прозвучать, добавил, уже жёстче к себе, чем к ней:
И тут же, почти сразу, потому что понял, как это может прозвучать, добавил, уже жёстче к себе, чем к ней:
- Не для того, чтобы я побежал всех строить, как идиот с шашкой. Хотя хочется, не вру. Потому что если там уже начали так чесать языками, это надо давить. Не наш роман, не чай, не кино, а вот эту дрянь.

 Он выпрямился чуть сильнее, не вставая, но собираясь внутри, и в этом движении было что-то очень виноградовское: не ласка, не покаяние, а опора через злую собранность. Ему всё ещё было больно от её "чай и кино", всё ещё сидел под рёбрами неприятный осадок от того, что, возможно, он один видел это иначе, но сейчас он уже не имел права делать разговор о своих надеждах. Не сейчас. Не после её лица, не после её смеха, не после того слова про довесок.
Он выпрямился чуть сильнее, не вставая, но собираясь внутри, и в этом движении было что-то очень виноградовское: не ласка, не покаяние, а опора через злую собранность. Ему всё ещё было больно от её "чай и кино", всё ещё сидел под рёбрами неприятный осадок от того, что, возможно, он один видел это иначе, но сейчас он уже не имел права делать разговор о своих надеждах. Не сейчас. Не после её лица, не после её смеха, не после того слова про довесок.
- Потому что я не считаю, что тебя надо прятать. И не хочу. Но это не отменяет того, что им работки надо подкинуть, раз на сплетни свободное время остаётся.

 Он замолчал и на этот раз молчал уже не защищаясь, а оставляя место ей. Не уходя, не сглаживая. Просто смотрел, ждал, напряжённый, злой, честно задетый, но уже стоящий не против неё, а где-то рядом, чуть сбоку, там, где в драке обычно встают плечом к плечу, даже если ещё секунду назад почти скандалили.
Он замолчал и на этот раз молчал уже не защищаясь, а оставляя место ей. Не уходя, не сглаживая. Просто смотрел, ждал, напряжённый, злой, честно задетый, но уже стоящий не против неё, а где-то рядом, чуть сбоку, там, где в драке обычно встают плечом к плечу, даже если ещё секунду назад почти скандалили.
Наташа фыркнула, но не от обиды, а скорее, чтобы подавить смешок. Поднялась из-за стола быстро, но с присущей ей мягкостью, осторожностью.
- Ой, всё, сейчас-сейчас, - пробормотала девушка и в голосе не было неловкости, только деловитость существа, который знал, что делать с личностью поменьше. - Давай-ка мы тебя освободим от этого безобразия. Шапка, конечно, красивая, но в помещении и правда жарко. Тут батареи топят - сил нет, хоть форточки открывай.
Мурат наблюдал за тем, как Наташа присела накорточки рядом с ребёнком. Пальцы задвигались ловко, совсем как у волшебницы, и Бурматаев отметил - впервые девушка выглядела по настоящему живой на работе. Не тем следователем, который хотел сбежать поскорее домой, а той вспышкой, что заглядывала ему через плечо вечерами, подкидывала идеи для дела, что были не нитью - спасательным кругом.
- Ну-ка, подними подбородок, - попросила Наталья.
Юлька послушалась, но в ту же секунду пискнула, а затем шикнула:
- Не щипуй! Я тоже так могу!
В доказательство своим словам девчонка щелкнула пальцами, будто прищепкой, и хватнула девушку за запястье. На коже заалел тонкий след и Мурат прищурился, стиснул зубы до скрежета. Внутри разлилось что-то ревностное - почему это чудо трогало его (?) женщину?
- Вот так, - продолжила Наташа, словно ей было и не больно вовсе. - Сейчас мы этот узел победим. Ты как вообще оказалась в плену у шапки? Сама завязывала?
Юлька мотнула головой и набычилась ещё больше. Засопела так, словно к ней в душу лезли, хотя, может так и было.
- Ладно, хочешь - молчи, - согласилась Наташа. - Твоё право. Я тоже в детстве любила помолчать, когда меня к незнакомым тётям приводили.
Девушка покосилась на Мурата, в очередной раз поймав его с поличным.
Мужчина прищурился. Краем уха слушал, как Наталья вела разговор с маленьким человеком и в голове пульсировало одно: "Как ты, чёрт возьми, это делаешь?". Он, наверняка, смотрелся рядом с детьми неуклюжим медведем, а Наташа...Наташа была изящной балериной, запертой не в снежном шаре, а в милицейской форме и между папками с убийствами.
Узел на шапке развезался и волосы у Юльки тут же встали дыбом. Ласковая женская ладонь опустилась на макушку и девчонка на мгновение оттаяла, становясь похожей на котёнка.
- Это всё Артём, - наябедничала она, явно намекая на тугие завязки шапки.
Наташа чуть отстранилась, оглядывая девочку сверху вниз.
- Всё, свобода, - объявила она. - Шапку мы пока сюда положим.
Девушка сгребла бумаги чуть суетливо и положила головной убор прямиком на край стола.
- А пальто? Пальто тоже будем снимать? Тут правда жарко, ты можешь вспотеть, а потом на улицу - и простудишься.
Юля засопела, принимаясь вынимать пуговицы из петель. Детские пальчики соскальзывали и девочка начала рычать, будто напуганный щенок.
- Давай помогу. Тут пуговицы большие, удобные. Сама справишься или помочь? Я смотрю, ты самостоятельная. В школу уже ходишь, наверное? В первом классе сейчас, да?
- Да в саду, - буркнула Юлька, вызывая смешок у Мурата.
Пальто стянули и в кабинете появился тонкий, чуть кисловатый запах детского пота. Сразу же захотелось открыть окно и Бурматаев восхитился, как на лице Наташи не дрогнул ни один мускул.
- Давай я повешу. А ты пока присаживайся, в ногах правды нет.
Девочка прошла по кабинету, а затем неуклюже взобралась на Наташин стул. Зашуршала бумагами и Мурат поймал себя на мысли, что видел своего будущего ребёнка именно таким: неразговорчивым, чуть хмурым, но очень похожим на эту женщину, что расправляла детское пальто.
- Это всё скучные рабочие дела, - заметила Наташа, когда вернулась от вешалки. - Преступников ловим. Но тебе такое рано ещё читать, там буквы сложные. Пойдём правда лучше в столовую? Дядя Мурат нас угостит.
Мурат оторвался от документов и вопросительно приподнял бровь.
- Ну что, идём? - поинтересовалась девушка, беря девочку за руку. - Дядя Мурат, Вы с нами? Или нам с Юлей самой в столовую топать?
Взгляд скользнул по настенным часам и Бурматаев выдохнул, откидываясь на спинку стула.
- Полчаса. Не больше, - предупредил он скорее ребёнка, чем Наташу.
Мужчина подошёл к вешалки и вытянул из внутреннего кармана кошелек. Открыл, пересчитал купюры, убеждаясь, что здесь точно хватит на двух голодных женщин и одного уставшего него.
- Прошу, - он распахнул дверь кабинета и махнул рукой в коридор, явно намекая покинуть помещение.

 Юлина ладонь в Наташиной руке была тёплой и чуть влажной то ли от волнения, то ли оттого, что девочка всё-таки успела вспотеть в своём тяжёлом пальто, пока возилась с пуговицами. Наташа шла не спеша, подстраиваясь под короткие детские шаги, и чувствовала, как внутри разливается то самое спокойное тепло, которое всегда появлялось рядом с детьми. Только сейчас к этому теплу примешивалось ещё кое-что - присутствие Мурата, который шёл следом, и от этого каждый шаг отдавался лёгким волнением где-то в груди.
Юлина ладонь в Наташиной руке была тёплой и чуть влажной то ли от волнения, то ли оттого, что девочка всё-таки успела вспотеть в своём тяжёлом пальто, пока возилась с пуговицами. Наташа шла не спеша, подстраиваясь под короткие детские шаги, и чувствовала, как внутри разливается то самое спокойное тепло, которое всегда появлялось рядом с детьми. Только сейчас к этому теплу примешивалось ещё кое-что - присутствие Мурата, который шёл следом, и от этого каждый шаг отдавался лёгким волнением где-то в груди.

 Коридор отделения тянулся длинный, с выщербленным кафельным полом. Где-то вдалеке хлопала дверь, слышались голоса, но здесь, в этой части коридора, было относительно тихо.
Коридор отделения тянулся длинный, с выщербленным кафельным полом. Где-то вдалеке хлопала дверь, слышались голоса, но здесь, в этой части коридора, было относительно тихо.
- Ну что, Юль, - начала Наташа, чуть поворачивая голову к девочке и стараясь говорить легко и непринуждённо, - рассказывай, как ты в садике этом своём? Воспитательница строгая?

 Наташа не торопила, давая время на размышление. Дети вообще не любят, когда их дёргают вопросами, требуя немедленного ответа. Надо дать им пространство.
Наташа не торопила, давая время на размышление. Дети вообще не любят, когда их дёргают вопросами, требуя немедленного ответа. Надо дать им пространство.
- А чем вы там занимаетесь? - продолжила она мягко. - Рисуете, наверное? Я в детстве очень любила рисовать. У меня целая коллекция зверей была, нарисованных карандашом.

 Она усмехнулась собственному воспоминанию и покосилась на Мурата. Хотелось как-то втянуть его в разговор, сделать так, чтобы они втроём, пусть и на эти полчаса, стали обычными людьми, которые идут обедать. Не следователями, не любовниками, не чужими друг другу людьми, а просто... компанией.
Она усмехнулась собственному воспоминанию и покосилась на Мурата. Хотелось как-то втянуть его в разговор, сделать так, чтобы они втроём, пусть и на эти полчаса, стали обычными людьми, которые идут обедать. Не следователями, не любовниками, не чужими друг другу людьми, а просто... компанией.
- А дядя Мурат, - она кивнула назад, даже не оборачиваясь, - он вообще, наверное, в детстве хулиганом был. Вон какой серьёзный вырос, а мелким наверняка по заборам лазил и стёкла бил. Как думаешь?

 Она сказала это и тут же почувствовала, как у самой уши начинают розоветь от этой попытки быть игривой. Но отступать было поздно.
Она сказала это и тут же почувствовала, как у самой уши начинают розоветь от этой попытки быть игривой. Но отступать было поздно.

 Коридор кончился, и они вышли в небольшой холл перед столовой. Пахло здесь уже не казённой краской и бумагой, а чем-то съестным: разогретым маслом, дешёвым чаем и теми самыми коржиками, которые обещали Юле. Очереди пока не было - время обеда ещё не наступило, и только несколько человек в форме сидели за дальними столиками, лениво ковыряясь в тарелках.
Коридор кончился, и они вышли в небольшой холл перед столовой. Пахло здесь уже не казённой краской и бумагой, а чем-то съестным: разогретым маслом, дешёвым чаем и теми самыми коржиками, которые обещали Юле. Очереди пока не было - время обеда ещё не наступило, и только несколько человек в форме сидели за дальними столиками, лениво ковыряясь в тарелках.

 Наташа взяла поднос, жестом приглашая Юлю сделать то же самое. Сама она взяла свой обычный набор: тарелку щей, второе с котлетой и пюре, компот. Всё это было привычным до оскомины, но выбора особо не было - столовая кормила сносно, хоть и без изысков.
Наташа взяла поднос, жестом приглашая Юлю сделать то же самое. Сама она взяла свой обычный набор: тарелку щей, второе с котлетой и пюре, компот. Всё это было привычным до оскомины, но выбора особо не было - столовая кормила сносно, хоть и без изысков.
- Так, - деловито сказала она, оглядывая раздачу. - Берём то, что нравится. Коржики вон там, - она указала взглядом на витрину с выпечкой. - Дядя Мурат платит, так что можешь выбрать любой. Или два. Как аппетит?

 Она поставила свой поднос на раздаточную стойку и обернулась к девочке, ожидая, что та выберет. Наблюдать за детьми в такой момент - отдельное удовольствие. Они всегда так серьёзно подходят к выбору еды, будто решают судьбу человечества.
Она поставила свой поднос на раздаточную стойку и обернулась к девочке, ожидая, что та выберет. Наблюдать за детьми в такой момент - отдельное удовольствие. Они всегда так серьёзно подходят к выбору еды, будто решают судьбу человечества.
- А в садике чем кормят? - спросила Наташа, поддерживая разговор. - Вкуснее, чем у нас в столовой, или нет? Честно говори, я не обижусь. У нас тут, конечно, не ресторан, но голодными не оставим.

 Она улыбнулась Юле и вдруг поймала себя на мысли, что это, наверное, самое нормальное, что было с ней за последние несколько месяцев. Обычный обед. Ребёнок, который выбирает коржик. Мурат, который стоит где-то рядом с кошельком. И никаких маньяков, никаких трупов, никакой этой липкой, тягучей неопределённости между ними.
Она улыбнулась Юле и вдруг поймала себя на мысли, что это, наверное, самое нормальное, что было с ней за последние несколько месяцев. Обычный обед. Ребёнок, который выбирает коржик. Мурат, который стоит где-то рядом с кошельком. И никаких маньяков, никаких трупов, никакой этой липкой, тягучей неопределённости между ними.

 Но мысль о неопределённости тут же вернулась, как только она вспомнила, что Мурат сзади. Она не видела его лица, но кожей чувствовала его присутствие. И от этого хотелось одновременно и обернуться, и убежать.
Но мысль о неопределённости тут же вернулась, как только она вспомнила, что Мурат сзади. Она не видела его лица, но кожей чувствовала его присутствие. И от этого хотелось одновременно и обернуться, и убежать.
- А ты сам что будешь? - спросила она, не оборачиваясь, но обращаясь явно к нему.

 Она старалась, чтобы голос звучал легко, почти насмешливо, как всегда. Чтобы он не услышал в нём того, что было на самом деле: этой дурацкой, неуместной надежды, что он сядет с ними за один стол и эти полчаса продлятся дольше, чем должны.
Она старалась, чтобы голос звучал легко, почти насмешливо, как всегда. Чтобы он не услышал в нём того, что было на самом деле: этой дурацкой, неуместной надежды, что он сядет с ними за один стол и эти полчаса продлятся дольше, чем должны.
Лука в очередной раз воровато заозирался, словно боялся, что у стен действительно были уши и глаза.
Марина затаилась. Дыхание её стало тихим, почти беззвучным, когда она попыталась прислушаться к тому, что происходило в других комнатах: где-то гремело, кто-то храпел, другой человек изошелся удушливым кашлем. Шагов Кости было не разобрать.
- Мы не можем здесь, в комнате, пока он спит - мало ли, проснётся, - зашептал Лука и голос у него получался булькающим, от обилия слов и торопливости парня. - Давай так. Ты сейчас ложись обратно, делай вид, что спишь. А когда Костя уснёт по-настоящему, выходи. Буду ждать на заднем дворе, у сарая. Выйдешь тихонечко, когда все уснут. Договорились?
Марина замерла. Глянула на соседнюю койку, которую уже расстелили и глаза стали ещё больше обычного. В них мелькнул лёгкий испуг, который заставил сжать серую ткань покрывало до хруста костяшек. Вдруг не получится? Вдруг поймает? Что тогда будет?
Лука смотрел на неё с азартом и тем юным восторгом, мешающем сидеть на одном месте.
- Я научу тебя, - заверил мальчишка. - Всему научу. Как ходить, как стоять, как говорить. Ты только выходи. Хорошо?
Марина даже кивнуть не успела: в коридоре послышались шаги и Лука тут же вскочил с места. Шмыгнул к двери, высунул нос, а затем и вовсе растворился, сливаясь с полумраком.
Костя вошёл в комнату, широко зевая. Дверь за его широкой спиной закрылась и Марина сжалась ещё сильнее. Нет, не от того, что ей предстояло провести ночь в одном пространстве с мужчиной - хотя и это тоже -, а только от мысли как Константин мог с ней поступить, если правда вскроется, если он заподозрит её в слежке.
Костя прошёл к единственному стулу. Не стесняясь, принялся стягивать с себя одежду, обнажая кожу, изгибы мышц, шрамы, которые оставило время и приключения.
Марина поймала себя на мысли, что смотрела на мужчину слишком долго. Не просто изучая и привыкая, нет, - дыхание участилось, щеки вспыхнули, будто девушку лихорадило. Пришлось приложить усилия, чтобы отвернуться, уставиться на дверь, прилегающую к ней стену. "Интересно, где его супруга? Неужели ждёт дома? Несчастная женщина!" - подумала Марина и поджала губы, для себя решая, что выбор она, всё же, сделала верный, сбежав из дома.
В комнате стало темно и Зуево, стараясь лишний раз не скрипеть постелью, устроилась на матрасе. Повернула слегка голову, пытаясь заглянуть себе за плечо, но обзора хватило только на потолок. "Пожелать "доброй ночи" или мужчины так не делают?". Марина вздохнула, снова пытаясь улечься.
Через некоторое время всё стихло. Костя мирно сопел рядом, выдыхая от чего-то ртом. Яким храпел, напоминая лошадь, а Федя ему аккомпанимировал. Семёна слышно не было и Зуева переживала как бы его не понесло курить среди ночи.
Она откинула с себя покрывало и поднялась так медленно, как могла, чтобы пружины не скрипнули, не выдали её маленький побег. Зашарила рукой под постелью, выискивая большие ботинки, но надевать не стала - только прихватила с собой, собираясь разобраться с этим уже в коридоре.
Двор встретил её прохладным воздухом, от которого тело тут же задрожало. Кожа под одеждой покрылась мурашками и Марине пришлось обнять себя, чтобы согреться, успокоиться.
Лука выскочил из темноты и Зуева, отшатнувшись, едва не рухнула в грязь. Бойкий мальчишка, не раздумывая вцепился ей в руку, и рванул на себя - подальше от чёрного хода, от окон постоялого двора, откуда доносились звуки.
- Ты пришла! - радостным шёпотом воскликнул Лука.
Марина кивнула.
- Мы же договорились, - напомнила она.
- Я уже думал... ну, мало ли. Костя проснуться мог или ещё что. Или ты передумаешь. Или... - мальчишка качнул головой. - Неважно. Главное, что ты здесь.
Лука выдохнул и в воздухе образовалось серое облако.
- Слушай, - пальцы сильнее сжали руку Марины. - Давай так. Ты просто пройдись сейчас по двору. Туда-обратно. Как обычно ходишь. Как ты ходила всегда, когда никто не видел. А я со стороны посмотрю и скажу, что тебя выдаёт. Походку там, плечи, голову, руки... всё, что в глаза бросается.
Девушка дёрнулась и хмыкнула. Взгляд у неё стал каким-то подозрительным, будто только сейчас испугалась, что мальчишка мог дурачить.
- Мужики по-другому ходят, понимаешь? - пояснил он, уловив эту небольшую перемену между ними. - Ты просто пройдись. А я посмотрю и скажу. Договорились?
Он отпустил её руку и отступил на несколько шагов, утопая в темноте, сливаясь с сарайкой.
Марина нерешительно застыла. Покосилась на здание постоялого двора, где в единственном окне всё ещё горел свет.
- Давай, - прошептал Лука с долей мольбы. - Не бойся. Я здесь. Я помогу. Я всё подскажу. Только ты иди, как обычно ходишь. Не думай ни о чём. Просто иди.
И Зуева пошла - прямо, ровно, будто перед ней начертили линию и сказали двигаться строго по ней.

 Лука сперва ничего не сказал. Марина пошла вперёд так ровно, так старательно, будто и впрямь перед ней кто-то начертил линию, от которой зависела судьба целой губернии, и он на миг просто засмотрелся. В этой её осторожной прямоте, в том, как она несла себя даже в чужой одежде, было что-то до смешного неуместное для их затеи и потому особенно цепкое: чужой кафтан, чужое имя, тёмный двор, одинокий огонь в окне, а всё равно видно было не мальчишку, а ту самую девицу, у которой даже тень, поди, умела двигаться приличнее половины живых людей. Она шла легко, почти бесшумно, с той мягкостью, от которой у Луки всякий раз делалось странно в груди: вроде ничего особенного не произошло, а взгляд уже не хочет отлипать.
Лука сперва ничего не сказал. Марина пошла вперёд так ровно, так старательно, будто и впрямь перед ней кто-то начертил линию, от которой зависела судьба целой губернии, и он на миг просто засмотрелся. В этой её осторожной прямоте, в том, как она несла себя даже в чужой одежде, было что-то до смешного неуместное для их затеи и потому особенно цепкое: чужой кафтан, чужое имя, тёмный двор, одинокий огонь в окне, а всё равно видно было не мальчишку, а ту самую девицу, у которой даже тень, поди, умела двигаться приличнее половины живых людей. Она шла легко, почти бесшумно, с той мягкостью, от которой у Луки всякий раз делалось странно в груди: вроде ничего особенного не произошло, а взгляд уже не хочет отлипать.

 И только потом до него дошло в полной мере, что именно тут неладно: не то, что она идёт плохо, а то, что идёт слишком хорошо для самой себя. Слишком грациозно. Слишком нежно. Слишком так, что любой встречный, даже если сперва и примет её за Юру, через два шага всё равно почует подвох и обернётся вслед не из подозрения даже, а из простого человеческого любопытства.
И только потом до него дошло в полной мере, что именно тут неладно: не то, что она идёт плохо, а то, что идёт слишком хорошо для самой себя. Слишком грациозно. Слишком нежно. Слишком так, что любой встречный, даже если сперва и примет её за Юру, через два шага всё равно почует подвох и обернётся вслед не из подозрения даже, а из простого человеческого любопытства.

 Он шумно втянул воздух и вскинул руку.
Он шумно втянул воздух и вскинул руку.
- Нет, погоди. Стой. Стой-стой-стой, так дело не пойдёт. Юра у тебя с первого же двора помрёт, даже не успев соврать, кто он такой.

 Смех уже подступил к горлу, но Лука честно попробовал сделать лицо построже, будто речь шла не о переодетой Марине посреди подмосковного постоялого двора, а о предмете тонком, почти военном. Вышло скверно. Он прикусил губу, обошёл её на полшага сбоку, прищурился, словно и впрямь искал, где именно в этом новоявленном Юре прячется Марина, и всё-таки фыркнул.
Смех уже подступил к горлу, но Лука честно попробовал сделать лицо построже, будто речь шла не о переодетой Марине посреди подмосковного постоялого двора, а о предмете тонком, почти военном. Вышло скверно. Он прикусил губу, обошёл её на полшага сбоку, прищурился, словно и впрямь искал, где именно в этом новоявленном Юре прячется Марина, и всё-таки фыркнул.
- Ты сейчас идёшь не как парень, а как барышня, которая очень добросовестно изображает парня по книжке. Причём по плохой, - сказал он и тут же, не давая словам зазвенеть слишком колко, смягчил голос. - Нет, ты только не дуйся. Это не потому, что у тебя не выходит. У тебя, в том-то и беда, всё слишком красиво выходит.

 Он поднял на неё глаза снова, всего на миг, и этого мига ему оказалось довольно, чтобы опять сбиться с собственной важности. Во взгляде у него мелькнуло то растерянное, смешливое недоумение, которое он сам, верно, с радостью бы спрятал, да не успел. Будто и впрямь не понимал, отчего с ней всё выходило так нескладно: другого любого переодень хоть в половик, хоть в армяк, и тот будет просто смешон, а с ней даже нелепость выходила какая-то совсем уж не к месту ладная.
Он поднял на неё глаза снова, всего на миг, и этого мига ему оказалось довольно, чтобы опять сбиться с собственной важности. Во взгляде у него мелькнуло то растерянное, смешливое недоумение, которое он сам, верно, с радостью бы спрятал, да не успел. Будто и впрямь не понимал, отчего с ней всё выходило так нескладно: другого любого переодень хоть в половик, хоть в армяк, и тот будет просто смешон, а с ней даже нелепость выходила какая-то совсем уж не к месту ладная.

 Лука поспешно кашлянул, словно это могло помочь, нахмурился для порядка и глянул уже строже, чем чувствовал, стараясь вернуть разговор туда, где ему полагалось быть: к Юре, к походке, к делу, а не к этой досадной, ненужной путанице в голове.
Лука поспешно кашлянул, словно это могло помочь, нахмурился для порядка и глянул уже строже, чем чувствовал, стараясь вернуть разговор туда, где ему полагалось быть: к Юре, к походке, к делу, а не к этой досадной, ненужной путанице в голове.

 Лука кашлянул и с важностью человека, который вот-вот прочтёт целую лекцию, выставил ладонь.
Лука кашлянул и с важностью человека, который вот-вот прочтёт целую лекцию, выставил ладонь.
- Смотри. Во-первых, Юра не должен так беречь пространство вокруг себя. Это сразу подозрительно. Если парень идёт через двор, он не думает: "Как бы мне никому не помешать". Он думает что-нибудь вроде: "Жрать хочется", или "Сапог трёт", или "Чего этот пёс на меня уставился?". Понимаешь? Мысль должна быть глупее. Намного глупее. Это очень помогает.

 Он сам хмыкнул, довольный своим выводом, и, уже раззадорившись, продолжил дальше:
Он сам хмыкнул, довольный своим выводом, и, уже раззадорившись, продолжил дальше:
- Во-вторых, руки. У тебя руки слишком... воспитанные. Они у тебя знают, что они у тебя красивые. Это, между прочим, огромная беда для Юры.

 Лука сказал это таким тоном, будто рассуждал о настоящем несчастье, и сам же не выдержал, прыснул в кулак, потом торопливо сделал вид, что никакого смеха не было, и выпрямился.
Лука сказал это таким тоном, будто рассуждал о настоящем несчастье, и сам же не выдержал, прыснул в кулак, потом торопливо сделал вид, что никакого смеха не было, и выпрямился.
- Мужики так не ходят, - с важностью объявил Лука. - Я понял, в чём беда.

 Он шагнул в сторону, развернулся, поджал плечи, подобрал руки так аккуратно, словно боялся нечаянно задеть ими воздух, и пошёл вперёд той подчеркнуто ровной, старательной походкой, которой Марина только что пыталась изобразить Юру. Картина вышла до того нелепая, что сам Лука едва не сбился на первом же шаге: слишком уж честно он копировал и эту бережность, и эту тихую, почти девичью осторожность, и даже то, как человек будто заранее извиняется перед всем двором за сам факт своего существования. Он сделал ещё два шага, остановился, повернулся к ней боком и с самым серьёзным видом прибавил к этому зрелищу ещё и лицо, до смешного чинное, почти постное.
Он шагнул в сторону, развернулся, поджал плечи, подобрал руки так аккуратно, словно боялся нечаянно задеть ими воздух, и пошёл вперёд той подчеркнуто ровной, старательной походкой, которой Марина только что пыталась изобразить Юру. Картина вышла до того нелепая, что сам Лука едва не сбился на первом же шаге: слишком уж честно он копировал и эту бережность, и эту тихую, почти девичью осторожность, и даже то, как человек будто заранее извиняется перед всем двором за сам факт своего существования. Он сделал ещё два шага, остановился, повернулся к ней боком и с самым серьёзным видом прибавил к этому зрелищу ещё и лицо, до смешного чинное, почти постное.
- Здравствуйте, я Юра, мне шестнадцать лет, и я, не извольте беспокоиться, постараюсь пройти так, чтобы никого не обидеть, никого не толкнуть и, если будет угодно, вовсе исчезнуть, - произнёс он важным, деревянным голосом, потом сам не выдержал, фыркнул и махнул рукой. - Ну разве так можно? Ты не парень сейчас, ты сейчас какой-то подарок благонравной тётушке на именины.

 Он, впрочем, тут же смягчился, чтобы не передавить, и глянул на Марину уже не дразня, а приглашая в эту смешную нелепицу вместе с ним. В глазах у него плясало веселье, но злости не было вовсе; напротив, всё в нём так и просило, чтобы она либо рассмеялась, либо обозвала его дураком, либо нарочно прошлась мимо ещё раз, назло, ещё хуже прежнего.
Он, впрочем, тут же смягчился, чтобы не передавить, и глянул на Марину уже не дразня, а приглашая в эту смешную нелепицу вместе с ним. В глазах у него плясало веселье, но злости не было вовсе; напротив, всё в нём так и просило, чтобы она либо рассмеялась, либо обозвала его дураком, либо нарочно прошлась мимо ещё раз, назло, ещё хуже прежнего.
- Нет, ты только не дуйся, - быстро добавил Лука, вскинув обе ладони, словно заранее отбиваясь от возможной кары. - Я не говорю, что это плохо. В том-то и несчастье, что это слишком хорошо. Слишком... аккуратно. Слишком красиво. Ты идёшь так, будто тебе с детства вбивали в голову: локти при себе, шаг ровнее, глаза не поднимать, места много не занимать. А Юра так не думает. Юра вообще, может, думает раз в неделю, и то случайно.

 Он снова попытался показать, но на этот раз нарочно довёл Маринину манеру до карикатуры: прошёлся на носках почти бесшумно, подобрал под себя весь корпус, вытянул шею с такой осторожным достоинством, будто нёс на голове несуществующий поднос с рюмками. Затем остановился, скосил на неё глаз и с убийственной важностью произнёс:
Он снова попытался показать, но на этот раз нарочно довёл Маринину манеру до карикатуры: прошёлся на носках почти бесшумно, подобрал под себя весь корпус, вытянул шею с такой осторожным достоинством, будто нёс на голове несуществующий поднос с рюмками. Затем остановился, скосил на неё глаз и с убийственной важностью произнёс:
- А если Юра ещё и вот так на людей смотреть будет, его в трактир не пустят.

 Лука ждал. Почти нарочно. Оставил эту паузу между собой и Мариной широкой, удобной, живой, чтобы она могла влезть в неё как угодно: засмеяться, фыркнуть, передразнить его в ответ, уколоть, что уж больно он разошёлся, или спросить, с чего это он вдруг сделался таким большим знатоком мужской походки. И только потом, когда смех у него чуть улёгся, он поскрёб затылок, переступил с ноги на ногу и признал уже честнее:
Лука ждал. Почти нарочно. Оставил эту паузу между собой и Мариной широкой, удобной, живой, чтобы она могла влезть в неё как угодно: засмеяться, фыркнуть, передразнить его в ответ, уколоть, что уж больно он разошёлся, или спросить, с чего это он вдруг сделался таким большим знатоком мужской походки. И только потом, когда смех у него чуть улёгся, он поскрёб затылок, переступил с ноги на ногу и признал уже честнее:
- Погоди... нет. Так я тебе толком не объясню.

 Он хотел было сразу пойти сам, показать как надо, но замялся на пол-движении. Вся прежняя важность с него слегка осыпалась. Лука повёл плечом, будто кафтан вдруг стал тесен, нахмурился, сам на себя рассердившись: ну что он, в самом деле, знал о том, как должен ходить мужчина, кроме всякой мальчишеской бравады да дворового дурачества? На ум, как назло, полезло не что-нибудь общее и удобное, а единственный настоящий образец, по которому у него в голове мерилось всё это упрямое, молчаливое, мужское. Костя. Конечно, Костя. Как он шёл, будто не пытался никому ничего доказать. Как в нём не было ни суеты, ни робости, ни этого вечного желания стать меньше, тише, незаметней. Он просто занимал своё место, и оттого место вокруг будто само под него подстраивалось.
Он хотел было сразу пойти сам, показать как надо, но замялся на пол-движении. Вся прежняя важность с него слегка осыпалась. Лука повёл плечом, будто кафтан вдруг стал тесен, нахмурился, сам на себя рассердившись: ну что он, в самом деле, знал о том, как должен ходить мужчина, кроме всякой мальчишеской бравады да дворового дурачества? На ум, как назло, полезло не что-нибудь общее и удобное, а единственный настоящий образец, по которому у него в голове мерилось всё это упрямое, молчаливое, мужское. Костя. Конечно, Костя. Как он шёл, будто не пытался никому ничего доказать. Как в нём не было ни суеты, ни робости, ни этого вечного желания стать меньше, тише, незаметней. Он просто занимал своё место, и оттого место вокруг будто само под него подстраивалось.

 Лука выпрямился уже иначе. Без прежней нарочитости, без петушиного размаха. Плечи расправились свободней, руки повисли вдоль тела спокойно, без той осторожности, с какой человек приучен держать себя под уздцы. Шаг у него стал не шире, а проще, тяжелее, ленивей, как будто он не спрашивал у двора позволения пройти, а знал заранее, что пройдёт. Он сделал несколько шагов, потом коротко обернулся через плечо и кивнул Марине, чтобы она смотрела внимательнее.
Лука выпрямился уже иначе. Без прежней нарочитости, без петушиного размаха. Плечи расправились свободней, руки повисли вдоль тела спокойно, без той осторожности, с какой человек приучен держать себя под уздцы. Шаг у него стал не шире, а проще, тяжелее, ленивей, как будто он не спрашивал у двора позволения пройти, а знал заранее, что пройдёт. Он сделал несколько шагов, потом коротко обернулся через плечо и кивнул Марине, чтобы она смотрела внимательнее.
- Вот, - сказал Лука уже серьёзнее, но без занудства. - Видишь? Не в том дело, чтобы топать, как медведь, или локти во все стороны распускать. Это дураки так понимают. Мужчина не потому мужчина, что занимает много места нарочно. А потому, что не извиняется за то, что вообще его занимает.

 Он ещё раз прошёлся, медленнее, разбирая движение на части и давая ей удобные места, за которые можно было цепляться и спорить.
Он ещё раз прошёлся, медленнее, разбирая движение на части и давая ей удобные места, за которые можно было цепляться и спорить.
- Плечи не подбирать, будто тебя сейчас отругают. Руки не прятать, словно они у тебя лишние. Шаг не делать украдкой. И голову не держать так, будто всякий встречный имеет право спросить, что ты здесь делаешь. Не имеет. Поняла? Юра никому не кланяется одним своим телом. Он идёт так, словно ему холодно, скучно, сапог трёт, жрать хочется, да мало ли. Но уж точно не так, словно он просит прощения у всего света за каждый свой шаг.

 Он остановился перед ней, глянул пристально, почти с вызовом, но в голосе у него всё ещё жило прежнее смешливое тепло.
Он остановился перед ней, глянул пристально, почти с вызовом, но в голосе у него всё ещё жило прежнее смешливое тепло.
- Ты всё стараешься стать меньше, - сказал он уже тише, но внятно, чтобы слова легли. - Тише. Аккуратнее. Понежнее. А тебе сейчас это только мешает. Юра не должен быть удобным. И ты не должна. Хотя бы на эти десять минут.

 Лука вскинул подбородок и отступил, освобождая ей место.
Лука вскинул подбородок и отступил, освобождая ей место.
- Давай ещё раз. Только теперь не так, будто ты боишься задеть воздух. А так, будто это воздух пусть думает, как тебя обойти.


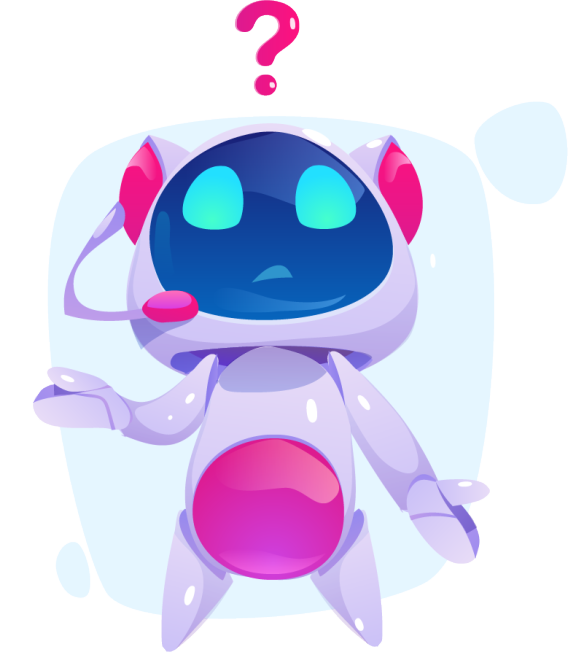
Не проблема! Введите адрес почты, чтобы получить ключ восстановления пароля.
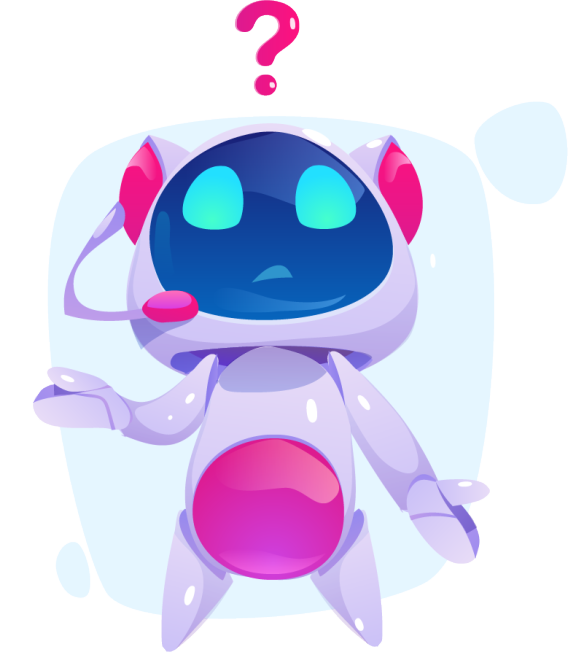
Код активации выслан на указанный вами электронный адрес, проверьте вашу почту.
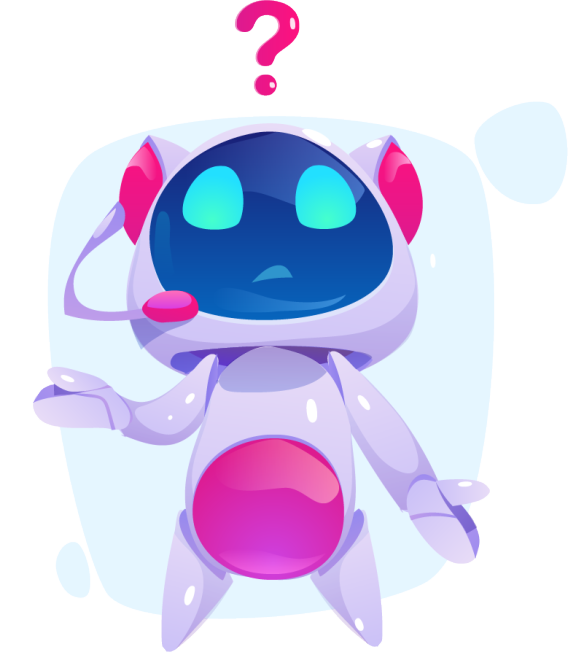
Код активации выслан на указанный вами электронный адрес, проверьте вашу почту.

after dark
- Бойся города Фэнду.
- Никогда не приезжай в Фэнду.
***
несколько дней спустя...
- Езжай в Фэнду.
- Там ты напишешь свой роман.
- М-м, - тихо протянул он, словно оценивая удачную шутку. - Ничего не выходит, правда?
- Роман не пишется. Слова не приходят.
- Нет вдохновения. Ни строчки.
- И, конечно, - продолжил он, слегка наклоняясь ближе, - ты, возможно, решила, что прошлый сон…
- …тот скелет…
- …что это был твой предок. Великий дух, который решил направить тебя.
- Какая очаровательная мысль.
- Нет.
- Это всего лишь злой дух, который любит проказничать. Сбивать людей с толку.
- Я, в отличие от него, предлагаю помощь.
- Но за помощь, - произнёс он мягко, - обычно платят.
***
- Да-да, слушаю! Кто это? Говорите громче, милочка, у меня уши старые, а море наглое, всё время лезет в разговор.
- Вы приедете паромом, других вариантов всё равно нет, если только Вы не дружите с Мором* лично. Если дружите, то мне тем более надо знать заранее, чтоб я хоть дом подмела как следует. Внук мой в это время на промысле, проклятый мальчишка. Сама я в порт не спущусь, ноги уже не те, да и нечего мне там среди ящиков болтаться. Вас встретит телега. Скажите вознице, что Вы к Янаги, он поймёт. Дом у самого берега, старый, крепкий, на сваях. Не бойтесь, не рухнет. Он старше половины Фэнду и переживёт ещё вторую половину.
- Только одно правило, милочка. Ночью не ходите без надобности к воде одна. Я не из тех старух, что пугают приезжих байками ради удовольствия, у меня дел и без того полно. Ладно, не пугайтесь. Приезжайте. Я Вас встречу.
- В Фэнду? - спросила она, поправляя платок и поджимая губы так, будто уже знала ответ. - Не иначе как к Янаги.
- Не слушайте их слишком. На воде у каждого язык становится длиннее, чем ум. Фэнду обычный. Просто маленький, старый и весь на своих причудах. У нас чтят Мора как положено, Марво поминают часто, потому что море кормит не всех одинаково. Оставишь рис у камня, повесишь ленточку у двери, не будешь ночью окликать то, чего не видишь, и живи себе дальше.
- И на воду после заката не пялься. Особенно если море тихое. Когда оно тихое, это как раз хуже всего.
- К Янаги-сан?
- Тогда садитесь. Меня Сэйта зовут. Бабка с утра всех на уши поставила, велела смотреть в оба, чтоб не увезли Вас не туда, будто у нас тут очередь из похитителей квартиранток.
- Дом у Янаги хороший. Старый, да. На сваях, да. Скрипит, да. Но у нас тут всё скрипит, кроме покойников. Те как раз ведут себя тише всех. Бабка сама суетливая, как сойка на ярмарке, но добрая. Вас закормит. От этого не спасает даже характер.
- Это от онрё. У нас, если не знаешь наверняка, кто шастает по ночам, просто вешаешь бумагу и просишь пройти мимо. Иногда помогает. Иногда хотя бы спится не так скверно.
- Приехали! - воскликнула она так, будто встретила не постоялицу, а давно потерянную родственницу. - Ну наконец-то. Я уж решила, что этот старый корыто-паром опять застрял посреди воды и все там дружно клянут Мора последними словами. Сэйта, не стой столбом, вещи занеси. Милочка, поднимайтесь.
- Тут у нас нижняя комната, там я сплю, туда Вам не надо, если только пожар или я вдруг помру, - бодро сообщила Янаги, ведя ГЕРОИНЮ дальше по дому с той деловитой стремительностью, при которой отказаться смотреть уже невозможно. - Здесь кухня. Тут печь, тут чай, тут миски. Если проголодаетесь ночью, не стесняйтесь.
- Вот. Ваша комната, - сказала Янаги и, хитро прищурившись, добавила, опираясь обеими руками на трость. - А теперь скажите мне честно, милочка. Вы приехали в Фэнду только ради тишины и моря, или всё-таки от чего-то ещё? У нас сюда редко добираются просто так.