— Я просто хочу отдохнуть, поспать наконец. — выдыхает Регина, снова уткнувшись ему в плечо, когда он наклонился к ней. Снова шаман был так близко, что надолю секунды дыхание сбилось, а сердце заколотилось. От его слов про ревность ей хотелось подскочить на месте и как капризный ребёнок доказывать обратное, но когда импульс прошёл, она поняла, что не хочет его в этом переубеждать. Да она ревновала и да готова это признать. То что происходило сегодня здесь в этой квартире было настолько интимрым, делать шаг назад было бы неразумно. — ты ещё скажи, что если я тебе совру или что то сделаю не то, то метка начнёт щипать? — иронично бросает девушка продолжая дышать ему в шею. Это было также игриво и также же соьлазнительно, не только же ему выбрасывать подобного рода действия. Её горячее дыхание касалось его нежной кожы шеи и уха, она была так близка, что голова была бы докоснуттся губами. Но вместо этого по змеиному, хотя почему по змеиному, закоодованный язык вдруг вылез из красивого рта, тоненький и шипящий, раздвоенный кончик касается до шеи. Можно рассчитать это за поцелуй. Она улыбается и тихо смеётся.


















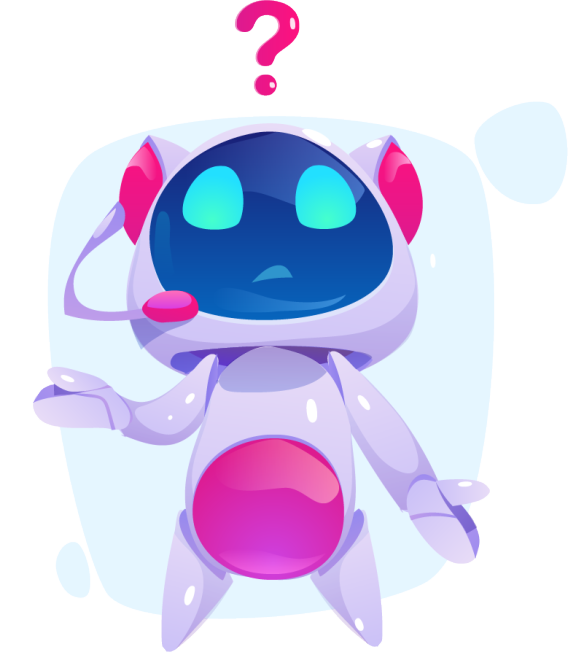
-
magnum opus
13 января 2026 в 19:21:06

Показать предыдущие сообщения (12)Яра отреагировала на его слова ещё до того, как смысл окончательно улёгся — плечи напряглись, спина выпрямилась, а взгляд стал холоднее, острее, будто он нащупал нерв и намеренно надавил. Улыбка с сигаретой в губах вызвала у неё короткий, злой всплеск — не ревность даже, а неприятное чувство, что её проверяют на слабину. Она не отвела глаз, выдержала его наклонённую голову, позволив паузе повиснуть, и только тогда медленно выдохнула, чтобы не сказать лишнего.
— Не путай заботу с сентиментальностью, — произнесла она ровно, без повышения голоса, но с тем нажимом, который не оставляет пространства для поддёвок. — И не называй их «моими». Это многое упрощает тебе, но не делает правдой.
Когда он отвёл взгляд и прислонился к машине, Яра не последовала за ним сразу. Она дала себе секунду, прислушалась к воздуху, к нарастающей влажности, к тому, как лес будто затаился перед дождём. Его фраза про животных резанула неприятным узнаваемым холодом; она скосила глаза в сторону деревьев, проверяя то, чего он не чувствовал, и поймала себя на том, что ей хочется встать между ним и лесом, хотя это было нелепо. Она шагнула ближе уже после, позволив ему держать себя свободной рукой — не как опору, а как границу, за которую он не имеет права перейти без спроса.
Мысль о том, что он переживает, она уловила не из слов, а из его движений — слишком внимательных, слишком сдержанных. Это раздражало и тревожило одновременно. Яра проследила за его взглядом в чащу, и на мгновение у неё свело под рёбрами: пусто. Тишина была слишком чистой. Она сжала пальцы, скрыв дрожь, и ничего не сказала, потому что знала — если заговорит, выдаст больше, чем хочет.
Когда он коротко бросил «Есть» и полез в багажник, она отреагировала сразу: шагнула к нему, чтобы увидеть, что именно он достаёт, и тут же остановилась, когда он снял пальто и протянул ей. Пальцы её замерли на ткани, прежде чем принять — жест был слишком интимным для ситуации и слишком ироничным, чтобы быть простым. Она накинула пальто на плечи, не просовывая руки в рукава, как знак временности, и встретила его взгляд без улыбки.
— Доверие — плохая валюта, — ответила она сухо. — Особенно в дождь.
Её внимание скользнуло по его рукам, по венам и татуировкам, но задерживаться она себе не позволила. Вместо этого Яра присела рядом, когда он начал работать с колесом, держась на безопасной дистанции, откуда можно было и помочь, и отстраниться. Металлический скрежет инструментов отдавался в зубах, и она невольно считала его движения, словно ритм мог удержать тревогу на месте.
Его просьба про сказку застала её врасплох. Она подняла голову, прищурилась, оценивая — насмешка это или приглашение, и в груди что-то неприятно кольнуло от слова «ведьмочка». Смех его она встретила молчанием, сжатой челюстью и взглядом, в котором было больше вызова, чем отказа. Пауза затянулась ровно настолько, чтобы он понял: она не собирается развлекать его по первому требованию.
— Я не рассказываю сказки тем, кто заранее уверен, что знает конец, — сказала Яра наконец, тихо, но отчётливо. Она подалась чуть вперёд, чтобы её слова не утонули в звуке дождя, который вот-вот должен был начаться. — Но если тебе правда нужна история… — она замолчала, давая себе секунду, и посмотрела на лес, — тебе придётся сначала пообещать, что не перебьёшь. И что исполнение желаний — не шутка.
Она замолчала снова, оставив это условие висеть между ними, и по тому, как она держала паузу — ровно, упрямо, не отводя взгляда, — было ясно: дальше ход за ним.
Она заговорила ровно, без театра, как будто не “рассказывала сказку”, а называла вещь своим именем, которое кто-то давно пытался отнять.
— Жил-был водяной, — начала Яра негромко, и голос её прозвучал ниже обычного, будто она не хотела, чтобы лес подслушивал лишнее. — Не тот, что из книжек, где он смешной и мокрый. Настоящий. Такой, у которого вода в глазах темнее, чем ночное небо, и которому не нужно доказывать, что он хозяин. Он просто им является.
Она перевела взгляд на руки Димы, как будто прицеливалась словами к его движениям, и продолжила, не ускоряясь, выдерживая ритм вместе со щелчками металла.
— И вот однажды к нему пришла ведьма. Не старая, не страшная. Молодая. Вроде бы даже обычная, только руки у неё знали то, чего голова ещё не понимала. Она принесла ему историю. Не за милость — за проход. Ей надо было пройти через воду так, чтобы вода не запомнила её имя.
Яра чуть улыбнулась уголком губ, но улыбка эта была сухая, как будто она сама не была уверена, кому она адресована — ему или себе.
— Водяной спросил: “Зачем тебе проход?” А ведьма ответила: “Чтобы не стать тем, кем меня хотят сделать”. И тогда водяной сказал: “История должна быть такая, чтобы я не мог её забыть”. Потому что забывчивость для таких, как он, и есть смерть.