


В купе повисло напряжённое молчание. Было слышно только звук колёс, отбивающих ритм об железную дорогу, и чувствовалась пульсация сердца, что буквально выпрыгивало из грудной клетке. Во рту пересохло и язык всё чаще скользил по треснутым губам, причиняя дискомфорт. В тот момент мысль о разоблачении стала звонче, почти осязаемой.
- Ну, Юра, - выдохнул главарь банды.
Он продолжал сидеть в той же расслабленной позе и во взгляде, что буквально приклеился к Марине, проскользнули озорные огоньки. Пожалуй, если черти и жили в этих «омутах», то были не с рогами, а крыльями и очень напоминали светлячков.
- История у тебя - чисто авантюрный роман. И про попа, и про дочку, и про шкатулку...
Сердце запрыгало чаще и Марина несколько раз сглотнула. Пальцы её задрожали и она с силой вцепилась в покрывало, которое всё ещё покоилось на её тонких коленях. «Не поверил!» - проскочила в голове испуганная мысль и губы побелели, чтобы потом и вовсе стать фиолетовыми.
Константин ничего больше не выразил: ни сомнений, ни одобрения. Большая ладонь нырнула в карман и выудила от туда помятую пачку папирос. Пальцы приподняли крышку с той аккуратностью, с которой барышня открывала шкатулку со своими украшениями или любовными письмами.
- Будешь? Или не куришь, революционер?
Марина поспешно мотнула головой, отказываясь от папиросы, а затем застыла. Глаза её распахнулись и в них появилось неприкрытое восхищение, когда Константин прикурил.
Спичка выхватила, освещая его лицо. Пламя сделало черты острее, выразительнее. Было в этом мужчине что-то благородное, совсем не свойственное обычному работяге. Глаза с пушистыми ресницами прикрылись и дым вышел из приоткрытого рта тонкой струйкой с едким запахом. «Может быть стоило попробовать?» - подумала Марина, ещё не осознавая всю магию дурного примера, который становился заразительным.
- Ну ни хрена ж себе! - гаркнул Яким.
Девушка вздрогнула и тут же отвела взгляд от Константина. Уши её загорелись так сильно, будто её поймали за чем-то непристойным, например, за подслушиванием важных разговоров под дверью кабинета.
- Ты это, Юрок... ты реально молоток! - продолжил Яким, явно намекая, что ничего такого не заметил. - Со второго этажа сиганул - и в кусты! А эти ироды за тобой... Слышь, мужики, я такого отчаянного пацана давно не встречал! Он же, считай, как заправский налётчик - и шкатулку спёр, и от погони ушёл, и не сдался!
Марина мгновенно просияло и едва не выдала себя небрежным взмахом ладони, как учили всех барышень её возраста. Тут же насупилась, прочистила горло и прохрипела:
- Да ладно уж...
В голосе слышалось смущение неловкого мальчишки.
Яким вдруг поддался к ней навстречу. В нос ударил запах пота вперемешку с жареной курицей. Смесь неприятная, но желудок предательски свело от голода.
- Слушай, Юрок, а ты это... если с нами дальше поедешь, мы тебя научим, как по-настоящему дела делать. А то шкатулки - это мелочь, детский лепет. Ты с нами на настоящее дело пойдёшь! Мы такое задумали - ахнешь!
Глаза Марины распахнулись. В тот момент она уже была готова ахнуть, ещё не зная про планы этой честной компании и даже не догадываясь, на что действительно были способны революционеры.
Костя в тот момент докурил и остаток папиросы с щелчком отправился в открытое окно. Дышать стало легче, но всего лишь на мгновение - стоило взгляду прилипнуть опять к Марине, как плечи девушки мгновенно напряглись. Мужчина наклонил голову и теперь наблюдал ещё внимательнее, пристальнее, словно чуял подвох, но не мог понять почему.
- Ну что ж, Юра, - задумчиво проговорил Костя. - Раз уж ты с нами решил ехать, будем считать - попутчик. А там видно будет, что из тебя за революционер выйдет.
Марина в ответ лишь кивнула, а сама внутри вся сжалась. Она ведь ничего не умела, совершенно ничего! Сколько сможет с ними продержаться? Пару дней? Неделю? Обман обязательно вскроется, всё погорит, а они... «Не тронут же?» - подумалось ей испуганно и взгляд с мольбой прошёлся по каждому из мужчин.
- А скажи-ка мне вот что, Юра... - голос у Константина сел, напоминая урчание кота на охоте. - Как ты вообще в революцию-то попал?
В купе снова повисло молчание, только к грохоту колёс добавилась пульсация в голове с единственным словом «как».
Взгляд у Марины стал стеклянным, когда она вспомнила кое-что.
Это случилось чуть больше полугода назад. На площади собиралась очередная ярмарка и народ шёл на базар, как мухи не летели на мёд и варенье.
Марина прогуливалась между рядами вместе с матушкой, когда взгляд упал на него - высокий юноша стоял на бочке как на сцене и сладкие речи, обещающие счастливое будущее, лились из его рта проворной рекой. Русоволосый, с широкой улыбкой и необъятной харизмой он привлекал к себе внимание не только барышень, но и мужиков. В руках у каждого оказывались брошюры с громкими фразами, которые и прельщали, и отталкивали.
Юноша исчез через несколько дней. Единственными напоминаниями остались листовки, размякшие под подошвой чужой обуви и дождя, а ещё мальчишки, вдруг ставшие сбиваться в группировки. Ничего от революционеров - обычное мелкое хулиганство, но бандитами они себя не считали.
- Вот как-то так, - пробормотала она, всё это время смотря в одну точку, не моргая.

 Костя слушал, не перебивая, и с каждой секундой его синие глаза становились всё внимательнее. Когда Марина замолчала, уставившись в одну точку, он хмыкнул и потянулся за новой папиросой. Чиркнул спичкой - резкий запах серы на миг перебил густой дух купе, смешанный из махорки, пота, дешёвого портвейна и прелой осенней сырости, сочащейся сквозь щели в окнах. Пламя на мгновение осветило его лицо - резкие скулы, и погасло, оставив после себя только тонкую струйку дыма.
Костя слушал, не перебивая, и с каждой секундой его синие глаза становились всё внимательнее. Когда Марина замолчала, уставившись в одну точку, он хмыкнул и потянулся за новой папиросой. Чиркнул спичкой - резкий запах серы на миг перебил густой дух купе, смешанный из махорки, пота, дешёвого портвейна и прелой осенней сырости, сочащейся сквозь щели в окнах. Пламя на мгновение осветило его лицо - резкие скулы, и погасло, оставив после себя только тонкую струйку дыма.

 Но прикурить не успел.
Но прикурить не успел.

 Дверь в купе с грохотом отъехала в сторону, ударившись о стенку. Звук был резкий, как выстрел, и Лука подскочил на месте, едва не выронив недоеденный кусок хлеба. Федя замер с рукой, тянущейся к фляге. Яким медленно, очень медленно опустил куриную кость на газету, и этот звук: сухой стук кости о бумагу прозвучал в тишине отчётливо, как удар молотка.
Дверь в купе с грохотом отъехала в сторону, ударившись о стенку. Звук был резкий, как выстрел, и Лука подскочил на месте, едва не выронив недоеденный кусок хлеба. Федя замер с рукой, тянущейся к фляге. Яким медленно, очень медленно опустил куриную кость на газету, и этот звук: сухой стук кости о бумагу прозвучал в тишине отчётливо, как удар молотка.

 В проёме стоял кондуктор - красномордый, запыхавшийся, с фонарём в одной руке и свистком в другой. Свет от фонаря резанул по глазам, заставив всех сощуриться. Жёлтые блики заплясали на лицах, выхватывая из полумрака то чей-то подбородок, то блестящий лоб, то побелевшие костяшки пальцев. От кондуктора пахло потом, угольной гарью и чем-то кислым - прокисшими щами или дешёвым самогоном, въевшимся в форменную тужурку. За его спиной маячили двое. Те самые. В простых, но крепких пиджаках, с лицами, на которых читалась одна простая, жестокая профессия: ловить. От них пахло иначе - дорогим табаком, кожаными ремнями и холодной, вязкой злостью, которая чувствуется нутром, как приближение грозы.
В проёме стоял кондуктор - красномордый, запыхавшийся, с фонарём в одной руке и свистком в другой. Свет от фонаря резанул по глазам, заставив всех сощуриться. Жёлтые блики заплясали на лицах, выхватывая из полумрака то чей-то подбородок, то блестящий лоб, то побелевшие костяшки пальцев. От кондуктора пахло потом, угольной гарью и чем-то кислым - прокисшими щами или дешёвым самогоном, въевшимся в форменную тужурку. За его спиной маячили двое. Те самые. В простых, но крепких пиджаках, с лицами, на которых читалась одна простая, жестокая профессия: ловить. От них пахло иначе - дорогим табаком, кожаными ремнями и холодной, вязкой злостью, которая чувствуется нутром, как приближение грозы.
- Так, мужики! - гаркнул кондуктор, обводя купе цепким взглядом. - Проверка документов. Всем приготовить билеты и паспорта.

 В купе повисла мёртвая тишина. Слышно было только, как где-то внизу, под полом, мерно стучат колёса - тук-тук-тук, тук-тук-тук да как свистит в углу Яким, задержавший дыхание.
В купе повисла мёртвая тишина. Слышно было только, как где-то внизу, под полом, мерно стучат колёса - тук-тук-тук, тук-тук-тук да как свистит в углу Яким, задержавший дыхание.

 Федя медленно положил руку на колено. Его обычно хмурое лицо сейчас было совершенно непроницаемо, только желваки на скулах ходили туда-сюда, выдавая напряжение. Он сидел напротив входа, и свет фонаря выхватывал его крупные кисти с въевшейся в складки кожи угольной пылью - след прежней жизни, о которой он никогда не рассказывал.
Федя медленно положил руку на колено. Его обычно хмурое лицо сейчас было совершенно непроницаемо, только желваки на скулах ходили туда-сюда, выдавая напряжение. Он сидел напротив входа, и свет фонаря выхватывал его крупные кисти с въевшейся в складки кожи угольной пылью - след прежней жизни, о которой он никогда не рассказывал.

 Семён, сидевший ближе всех к выходу, чуть сдвинулся, загораживая собой проход. Движение было плавным, почти незаметным - только опытный глаз мог бы уловить, как он перенёс вес тела на левую ногу, освобождая правую для рывка. Его рука скользнула куда-то под куртку - ткань на боку натянулась, выдавая движение пальцев, сжимающих рукоять ножа. Семён смотрел не на кондуктора, а на тех двоих, и в его спокойных, чуть прищуренных глазах читалась готовая вспыхнуть смертельная опасность.
Семён, сидевший ближе всех к выходу, чуть сдвинулся, загораживая собой проход. Движение было плавным, почти незаметным - только опытный глаз мог бы уловить, как он перенёс вес тела на левую ногу, освобождая правую для рывка. Его рука скользнула куда-то под куртку - ткань на боку натянулась, выдавая движение пальцев, сжимающих рукоять ножа. Семён смотрел не на кондуктора, а на тех двоих, и в его спокойных, чуть прищуренных глазах читалась готовая вспыхнуть смертельная опасность.

 Яким застыл с открытым ртом, забыв прожевать. На его лысой макушке блестели капли пота, скатывающиеся по вискам вниз, к щетинистым щекам. Он переводил взгляд с кондуктора на ищеек и обратно, и в его глазах разгоралось то самое бешеное, отчаянное веселье, которое всегда появлялось перед дракой, когда кровь ударяет в голову и хочется размахивать кулаками, не думая о последствиях.
Яким застыл с открытым ртом, забыв прожевать. На его лысой макушке блестели капли пота, скатывающиеся по вискам вниз, к щетинистым щекам. Он переводил взгляд с кондуктора на ищеек и обратно, и в его глазах разгоралось то самое бешеное, отчаянное веселье, которое всегда появлялось перед дракой, когда кровь ударяет в голову и хочется размахивать кулаками, не думая о последствиях.

 Лука побледнел так, что веснушки на его носу проступили тёмными пятнами. Губы его дрожали, на лбу выступила мелкая испарина, блестящая в жёлтом свете фонаря. Он сжался в комок, вжав голову в плечи, и только пальцы его судорожно теребили край рубахи, накручивая ткань на побелевшие костяшки. Он перевёл взгляд на Марину - огромный, полный ужаса, умоляющий. В этом взгляде читалось всё: "Не шевелись. Молчи. Ради всего святого, не выдай себя". Он смотрел на неё так, будто от неё сейчас зависела его собственная жизнь.
Лука побледнел так, что веснушки на его носу проступили тёмными пятнами. Губы его дрожали, на лбу выступила мелкая испарина, блестящая в жёлтом свете фонаря. Он сжался в комок, вжав голову в плечи, и только пальцы его судорожно теребили край рубахи, накручивая ткань на побелевшие костяшки. Он перевёл взгляд на Марину - огромный, полный ужаса, умоляющий. В этом взгляде читалось всё: "Не шевелись. Молчи. Ради всего святого, не выдай себя". Он смотрел на неё так, будто от неё сейчас зависела его собственная жизнь.

 Костя не шелохнулся. Он всё так же сидел, откинувшись на стенку, с папиросой в расслабленных пальцах. Но в его позе что-то неуловимо изменилось. Напряжение собралось где-то внутри, как пружина. Глаза сузились, став похожими на две тёмные щели. Он смотрел не на кондуктора - на тех двоих за его спиной. Дым от папиросы тянулся к потолку тонкой струйкой, дрожащей в воздухе, и эта дрожь единственная выдавала, что внутри у него всё замерло в ожидании.
Костя не шелохнулся. Он всё так же сидел, откинувшись на стенку, с папиросой в расслабленных пальцах. Но в его позе что-то неуловимо изменилось. Напряжение собралось где-то внутри, как пружина. Глаза сузились, став похожими на две тёмные щели. Он смотрел не на кондуктора - на тех двоих за его спиной. Дым от папиросы тянулся к потолку тонкой струйкой, дрожащей в воздухе, и эта дрожь единственная выдавала, что внутри у него всё замерло в ожидании.

 Первый из преследователей - тот самый, что говорил с Лукой в багажном отделении шагнул в купе, оттеснив кондуктора плечом. Пол под его сапогами скрипнул. Он был широк в кости, с бычьей шеей и маленькими, глубоко посаженными глазами, которые сейчас шарили по лицам, как щупальца. В руке он сжимал свернутую в трубку бумагу - может быть, фотографию, может быть, опись. От него пахло потом, табаком и чем-то ещё - металлическим, казённым, от чего у нормального человека холодеет внутри.
Первый из преследователей - тот самый, что говорил с Лукой в багажном отделении шагнул в купе, оттеснив кондуктора плечом. Пол под его сапогами скрипнул. Он был широк в кости, с бычьей шеей и маленькими, глубоко посаженными глазами, которые сейчас шарили по лицам, как щупальца. В руке он сжимал свернутую в трубку бумагу - может быть, фотографию, может быть, опись. От него пахло потом, табаком и чем-то ещё - металлическим, казённым, от чего у нормального человека холодеет внутри.

 Взгляд его скользнул по Якиму, задержался на Феде, переполз на Семёна... и вдруг остановился на Луке.
Взгляд его скользнул по Якиму, задержался на Феде, переполз на Семёна... и вдруг остановился на Луке.
- А, это ты, пацан, - сказал он, и в его голосе прозвучала нехорошая, вязкая усмешка.

 Голос был низкий, с хрипотцой, от которой Лука дёрнулся, будто от удара.
Голос был низкий, с хрипотцой, от которой Лука дёрнулся, будто от удара.
- Помню тебя. Ты тогда в багажном курил. И сказал, что девка в третий класс побежала.

 Он шагнул ближе, нависая над Лукой всей своей грузной массой. Половицы жалобно скрипели под его весом. Лука вжался в стену так, что, казалось, хотел сквозь неё провалиться. До него долетел запах - смесь дешёвого табака, лука и чего-то кислого, застарелого, въевшегося в поры.
Он шагнул ближе, нависая над Лукой всей своей грузной массой. Половицы жалобно скрипели под его весом. Лука вжался в стену так, что, казалось, хотел сквозь неё провалиться. До него долетел запах - смесь дешёвого табака, лука и чего-то кислого, застарелого, въевшегося в поры.
- А мы третий класс обыскали. Весь. От и до. Нет там никого.

 Он наклонился, заглядывая Луке прямо в глаза. Расстояние между их лицами сократилось до нескольких дюймов. Лука перестал дышать.
Он наклонился, заглядывая Луке прямо в глаза. Расстояние между их лицами сократилось до нескольких дюймов. Лука перестал дышать.
- Ты чего-то напутал, пацан? Или, может, соврал?

 Тишина в купе стала такой плотной, что, казалось, её можно было резать ножом. Яким перестал дышать. Федя медленно, очень медленно, разжал кулак и снова сжал - пальцы хрустнули. Семён чуть повернул голову, оценивая расстояние до второго ищейки, застывшего у входа.
Тишина в купе стала такой плотной, что, казалось, её можно было резать ножом. Яким перестал дышать. Федя медленно, очень медленно, разжал кулак и снова сжал - пальцы хрустнули. Семён чуть повернул голову, оценивая расстояние до второго ищейки, застывшего у входа.

 Второй преследователь шагнул следом, встал у двери, перекрывая выход. Он был чуть пониже первого, но такой же кряжистый, с лоснящимся от пота лицом и цепкими, бегающими глазками. Его взгляд методично, как у счётчика, переползал с предмета на предмет, с лица на лицо. Он облизнул губы - влажные, блестящие в свете фонаря и вдруг его глаза остановились.
Второй преследователь шагнул следом, встал у двери, перекрывая выход. Он был чуть пониже первого, но такой же кряжистый, с лоснящимся от пота лицом и цепкими, бегающими глазками. Его взгляд методично, как у счётчика, переползал с предмета на предмет, с лица на лицо. Он облизнул губы - влажные, блестящие в свете фонаря и вдруг его глаза остановились.

 На Марине.
На Марине.

 Он смотрел на неё долго. Очень долго. Так долго, что Лука, краем глаза следивший за происходящим, почувствовал, как сердце уходит в пятки. Взгляд ищейки медленно, детально ощупывал её лицо, её шею, её руки, сжимающие край одеяла. Он видел, как его ноздри раздуваются, втягивая воздух - зверь, взявший след.
Он смотрел на неё долго. Очень долго. Так долго, что Лука, краем глаза следивший за происходящим, почувствовал, как сердце уходит в пятки. Взгляд ищейки медленно, детально ощупывал её лицо, её шею, её руки, сжимающие край одеяла. Он видел, как его ноздри раздуваются, втягивая воздух - зверь, взявший след.

 Первый, тот, что нависал над Лукой, выпрямился, проследил за взглядом напарника. И тоже уставился на Марину.
Первый, тот, что нависал над Лукой, выпрямился, проследил за взглядом напарника. И тоже уставился на Марину.
- А это кто? - спросил он, кивая на неё. Голос его стал тише, но от этого ещё опаснее, тягучий, как патока. - Этот... хлипкий?

 Он шагнул в сторону полки, где сидела Марина. Половица под его сапогом жалобно скрипнула - раз. Другой. Третий шаг. Он приближался.
Он шагнул в сторону полки, где сидела Марина. Половица под его сапогом жалобно скрипнула - раз. Другой. Третий шаг. Он приближался.

 Федя качнулся вперёд, но Костя, не поворачивая головы, чуть заметно повёл пальцем - жест, незаметный для чужих, но свой поняли. Федя замер.
Федя качнулся вперёд, но Костя, не поворачивая головы, чуть заметно повёл пальцем - жест, незаметный для чужих, но свой поняли. Федя замер.

 Ищейка подошёл к Марине вплотную. Теперь их разделяло меньше аршина. Он смотрел на неё сверху вниз, и в его маленьких, глубоко посаженных глазах разгоралось узнавание. Он протянул руку - тяжёлую, с грязными ногтями, с золотым перстнем на безымянном пальце и взялся за край кепки, низко надвинутой на лоб.
Ищейка подошёл к Марине вплотную. Теперь их разделяло меньше аршина. Он смотрел на неё сверху вниз, и в его маленьких, глубоко посаженных глазах разгоралось узнавание. Он протянул руку - тяжёлую, с грязными ногтями, с золотым перстнем на безымянном пальце и взялся за край кепки, низко надвинутой на лоб.
- А ну-ка, - сказал он, дёргая кепку вверх. - Дай-ка гляну, что ты там прячешь...

 Лука зажмурился. Яким подался вперёд. Семён сделал полшага. Федя сжал кулак до хруста.
Лука зажмурился. Яким подался вперёд. Семён сделал полшага. Федя сжал кулак до хруста.

 Все ждали реакции Марины, готовые, если что, влезть в драку.
Все ждали реакции Марины, готовые, если что, влезть в драку.
Олеся застыла. Даже не успела зачерпнуть еду на ложку. Теперь и она напоминала стаую, которая смотрела на другую в музейном зале.
Баюн едва заметно оскалился. Единственный глаз сверкнул, наблюдая за непритыми эмоциями маленькой ведьмы, но счастье его продлилось недолго.
- Чего орёшь? - гаркнула Олеся, напоминая не молодую девушку, а сварливую бабу на базаре.
Она махнула локтем и кот с возмущенным ором спикировал на пол. Приземлился чётко на лапы, но спина всё равно выгнулась, да и шерсть испуганно встала дыбом. Ну не привык Баюн к таким своим размерам, не привык.
- Убить меня решила?! - прорычал оборотень.
Он развернулся нелепым прыжком. Взгляд уткнулся в ногу Олеси, а хвост нервно задергался, чтобы уже через мгновение начать вилять, показывая недовольство. "Да я тебя в лоскуты разорву!" - подумал Баюн.
Его туша отскочила от ноги ведьмы с мягким толчком, будто кто-то на икру прицепил подушку. Оборотень брякнулся на пол и тут же непонимающе мотнул головой. Да что за напасть такая?
Баюн вспомнил про слова их сделки слишком запаздоло. В голове зазвенело: "Навредить ты мне не сможешь" и пасть раскрылась, выпуская надрывный рев, который в таком теле больше походил на обычное шипение.
- Какая дверь? - продолжила Олеся, ничуть не страшась "зверя". - Ты про какую дверь вообще? В сени? На улицу?
Баюн молчал. Только смотрел и продолжал вздрагивать хвостом, продумывая план убийства.
Олеся вздохнула и поднялась из-за стола. Баюн заметил как бережно она отодвинула тарелку, не то что его. Топот ведьминых шагов заполнил помещение кухни, а затем внутрь забрался холод, пущенный из сеней.
- Открыла, - рявкнула Олеся. - Всё, открыла. А теперь заткнись и дай мне поесть, пока я с голоду не сдохла! И без того сил нет, а ты ещё орёшь, как резаный!
Баюн фыркнул.
- А мне уже не надо. Раньше надо было, - протянул он тоном обиженным и явно оскорбленным. - Чтобы у тебя твоя каша поперёк горла встала.

 Олеся дожёвывала сердечко, глядя на кота с выражением глубочайшей усталости на лице. Она даже бровью не повела, когда он приземлился с выгнутой спиной и дыбом шерстью. Только ложку отложила, чтобы не подавиться от неожиданности.
Олеся дожёвывала сердечко, глядя на кота с выражением глубочайшей усталости на лице. Она даже бровью не повела, когда он приземлился с выгнутой спиной и дыбом шерстью. Только ложку отложила, чтобы не подавиться от неожиданности.
- Убить меня решила?!

 Олеся вздохнула. Медленно, глубоко, как вздыхают люди, которые уже мысленно прикинули все варианты развития событий и поняли, что ни один не сулит ничего хорошего.
Олеся вздохнула. Медленно, глубоко, как вздыхают люди, которые уже мысленно прикинули все варианты развития событий и поняли, что ни один не сулит ничего хорошего.
- Если б решила, ты б уже не орал, - ответила она буднично и снова взялась за ложку.

 Кот заметался, развернулся нелепым прыжком, уставился на её ногу. Хвост его нервно дёрнулся, а потом принялся вилять быстро, раздражённо.
Кот заметался, развернулся нелепым прыжком, уставился на её ногу. Хвост его нервно дёрнулся, а потом принялся вилять быстро, раздражённо.

 Олеся зачерпнула ещё булгура, отправила в рот, прожевала, не сводя с него глаз. Кот молчал. Только смотрел и вздрагивал хвостом.
Олеся зачерпнула ещё булгура, отправила в рот, прожевала, не сводя с него глаз. Кот молчал. Только смотрел и вздрагивал хвостом.
- Чего замер? - спросила она с набитым ртом. - Иди дверь карауль. Ты же просил открыть.

 Баюн фыркнул. Так, что усы разлетелись в стороны.
Баюн фыркнул. Так, что усы разлетелись в стороны.
- А мне уже не надо. Раньше надо было. Чтобы у тебя твоя каша поперёк горла встала.

 Олеся замерла с ложкой на полпути ко рту. Посмотрела на него долгим, внимательным взглядом. Потом медленно, очень медленно, ложку всё же отправила в рот, прожевала, проглотила, и только после этого заговорила.
Олеся замерла с ложкой на полпути ко рту. Посмотрела на него долгим, внимательным взглядом. Потом медленно, очень медленно, ложку всё же отправила в рот, прожевала, проглотила, и только после этого заговорила.
- Слушай, древнее ты наше чудище, - голос её звучал устало, но в этой усталости проскальзывали стальные нотки. - Я тебя от дуба отвязала. Кровью своей накормила. Полмагазина с тобой обошла, блох твоих насмотрелась. У меня сейчас сил нет даже на то, чтобы злиться. Поэтому если ты хочешь на меня обижаться - обижайся. Хочешь проклинать - проклинай. Но делай это тихо.

 Она доела почти всё, оставив на дне тарелки немного булгура и одинокое сердечко, которое уже успело остыть и покрыться тонкой плёнкой застывшего жира. Сытость разливалась по телу тяжёлым, сонным теплом, но где-то на границе этого тепла уже зарождалось беспокойство. Силы возвращались, но медленно, слишком медленно. "Батарейка" была на дне, если не на нуле, то где-то рядом.
Она доела почти всё, оставив на дне тарелки немного булгура и одинокое сердечко, которое уже успело остыть и покрыться тонкой плёнкой застывшего жира. Сытость разливалась по телу тяжёлым, сонным теплом, но где-то на границе этого тепла уже зарождалось беспокойство. Силы возвращались, но медленно, слишком медленно. "Батарейка" была на дне, если не на нуле, то где-то рядом.

 Олеся отодвинула тарелку, потянулась, хрустнув позвонками. В сенях было тихо, только ветер иногда подвывал в щелях, да где-то далеко, на болотах, перекликались совы. Обычный ночной Буян. Обычная тишина.
Олеся отодвинула тарелку, потянулась, хрустнув позвонками. В сенях было тихо, только ветер иногда подвывал в щелях, да где-то далеко, на болотах, перекликались совы. Обычный ночной Буян. Обычная тишина.

 И вдруг - звук.
И вдруг - звук.

 Сначала она подумала, что показалось. Но звук повторился. Тихий, настойчивый, будто кто-то скрёбся снаружи, у самой двери. Или внутри? Она прислушалась, повернув голову.
Сначала она подумала, что показалось. Но звук повторился. Тихий, настойчивый, будто кто-то скрёбся снаружи, у самой двери. Или внутри? Она прислушалась, повернув голову.
- Ты это слышал? - спросила она шёпотом, сама не зная, зачем шепчет.

 Скребок повторился. Теперь громче.
Скребок повторился. Теперь громче.

 Олеся медленно, стараясь не делать резких движений, поднялась из-за стола. Рука сама собой потянулась к поясу, где обычно висел мешочек с солью и железными опилками, но наткнулась на пустоту - она была дома, в своей одежде, без привычной амуниции.
Олеся медленно, стараясь не делать резких движений, поднялась из-за стола. Рука сама собой потянулась к поясу, где обычно висел мешочек с солью и железными опилками, но наткнулась на пустоту - она была дома, в своей одежде, без привычной амуниции.

 В следующую секунду дверь в сени, та самая, которую она открыла для кота, с грохотом распахнулась, и в проёме показалось нечто.
В следующую секунду дверь в сени, та самая, которую она открыла для кота, с грохотом распахнулась, и в проёме показалось нечто.



 Маленькое. Круглое. Пузатое. С мордой, похожей на печёную картошку, и глазами-бусинками, горящими зелёным.
Маленькое. Круглое. Пузатое. С мордой, похожей на печёную картошку, и глазами-бусинками, горящими зелёным.

 Аука.
Аука.

 Лесной проказник, мелкая пакость, которая водилась в здешних краях и славилась тем, что заводила путников в чащу своим дурацким "ау". Но что он делал здесь, в доме? И как открыл дверь?
Лесной проказник, мелкая пакость, которая водилась в здешних краях и славилась тем, что заводила путников в чащу своим дурацким "ау". Но что он делал здесь, в доме? И как открыл дверь?

 Аука замер на пороге, уставившись на кота. Тишина в горнице стала такой плотной, что её можно было резать ножом.
Аука замер на пороге, уставившись на кота. Тишина в горнице стала такой плотной, что её можно было резать ножом.

 А потом Аука улыбнулся. Широко, до ушей, но как-то совсем не добро и побежал на кота. Ручки вытянул впереди, целясь то ли в усы, то ли в хвост.
А потом Аука улыбнулся. Широко, до ушей, но как-то совсем не добро и побежал на кота. Ручки вытянул впереди, целясь то ли в усы, то ли в хвост.
Слова легли на воздух и между мужчинами повисло молчание. Тяжелое, давящее, в котором можно было услышать, как стучало сердце Феликса в груди, и как тикали часы в чье-то кармане. Минуты тянулись мучительно медленно и спина снова начала обливаться холодным потом: поверили ли они? Одобрили такой ответ?
Столыпин первым нарушил тишину. Он усмехнулся достаточно сухо и звук напомнил кряканье старого селезня. Усы его дрогнули, выдавая натяжение уголка губ, словно кто-то потянул за нитку его рот. Насмехался? Принимал?
- Хороший ответ, - отозвался он.
Голос у него оставался спокойным, что в нём нельзя было различить ни удовольствия, ни злости.
Феликс сглотнул. В кончиках пальцев появилась уже знакомая пульсация - верный признак, что из носа вот-вот должна была хлынуть кровь. Следовало взять себя в руки и как можно скорее.
Юсупов промолчал. Лишь благодарно хмыкнул и вздёрнул подбородок. Грудь его выпятилась вперёд, от чего юноша стал казаться выше, но всё ещё несуразно.
Витте прищурился. Он долго буравил Феликса взглядом, пока губы у мужчины не дрогнули. Его улыбка была явной, мягкой, почти отеческой, но князь понимал - это лишь фарс.
- Редко встретишь молодого человека, который сразу даёт верный ответ, а не пытается блеснуть остроумием, - протянул Витте. - Похвально, князь. Очень похвально.
Плечи Феликса расслабились и в тот момент ему показалось, что он сбросил со своей шеи не просто удавку, а самый настоящий груз, с которым можно было запросто залечь на дно Невы.
- Однако, - радость продлилась недолго, стоило Витте скользнуть взглядом по Татьяне, а затем снова посмотреть на Юсупова. - Позвольте заметить, князь, что компанию себе вы выбрали весьма… своеобразную.
Слово было нейтральным и даже могло сойти за комплимент, но в голосе доверенного лица императора слышался самый настоящий плевок. Не тот, что нелестным сгустком падал возле ног, а тот, что бил в лицо и проникал под кожу.
Витте не смотрел на Татьяну, но все прекрасно понимали, про кого тот говорил. Сухо, почти нейтрально, правда, смакуя реакцию дамы и её спутника.
- Вы производите впечатление человека разумного, спокойного. Странно, что Вы выбрали подобную компанию... Надеюсь, впредь Вы будете осмотрительнее в выборе тех, с кем показываетесь на людях.
Феликс стиснул зубы и те скрипнули друг об друга, как жернова на мельнице. Уголки губ дрогнули и Юсупов расплылся в улыбке, больше похожей на собачий оскал. «Намекаешь на себя, старый...» - фразу не закончил, но зато с удовольствием представил Витте в платье, что так идеально сидело на Татьяне, и в кружевных перчатках, держащего молодого князя под локоток.
- Благодарю, - Феликс выдохнул это слово, стараясь не звучать враждебно. - Непременно прислушаюсь к словам столь умных господ.
Юсупов почтенно поклонился и стрельнул взглядом в Дашкова, явно прося избавить его от этой компании, что вызывала теперь не просто раздражение, а самую настоящую тошноту.

 Татьяна слушала. Каждое слово, каждую интонацию, каждый чёртов намёк, завёрнутый в атлас светской любезности. Внутри всё горело огнём, хотя лицо хранило безупречное спокойствие статуи. Внутри же всё кипело, пузырилось и грозило выплеснуться через край раскалённой лавой. "Мразь. Какая же мразь. Сложная репутация? Да они сами друг другу глотки годами рвут, а туда же - менять меня при людях. Старцы хреновы. Властью пропитались, как тараканы навозом. Ещё и на Феликса смотрят так, будто он подобрал меня на помойке". Пальцы, сжимавшие веер, побелели. Внутри уже набирала обороты та самая буря, которую она так долго училась укрощать.
Татьяна слушала. Каждое слово, каждую интонацию, каждый чёртов намёк, завёрнутый в атлас светской любезности. Внутри всё горело огнём, хотя лицо хранило безупречное спокойствие статуи. Внутри же всё кипело, пузырилось и грозило выплеснуться через край раскалённой лавой. "Мразь. Какая же мразь. Сложная репутация? Да они сами друг другу глотки годами рвут, а туда же - менять меня при людях. Старцы хреновы. Властью пропитались, как тараканы навозом. Ещё и на Феликса смотрят так, будто он подобрал меня на помойке". Пальцы, сжимавшие веер, побелели. Внутри уже набирала обороты та самая буря, которую она так долго училась укрощать.
- Благодарю. Непременно прислушаюсь к словам столь умных господ.

 Он поклонился безупречно, как учили с детства, и стрельнул взглядом в Дашкова. Коротко, остро, почти умоляюще: забери меня отсюда.
Он поклонился безупречно, как учили с детства, и стрельнул взглядом в Дашкова. Коротко, остро, почти умоляюще: забери меня отсюда.

 Дашков видел. И уже сделал шаг вперёд, готовый вмешаться, когда раздалось:
Дашков видел. И уже сделал шаг вперёд, готовый вмешаться, когда раздалось:
- Простите, господа, не расслышала. Возможно, это из-за вашей старческой дикции.

 Татьяна Алексеевна улыбнулась так, что это не предвещало ничего хорошего. Глаза её, ещё минуту назад тёплые, теперь поблёскивали тем самым опасным огоньком, который Дашков знал слишком хорошо.
Татьяна Алексеевна улыбнулась так, что это не предвещало ничего хорошего. Глаза её, ещё минуту назад тёплые, теперь поблёскивали тем самым опасным огоньком, который Дашков знал слишком хорошо.
- Вы, кажется, обсуждали мою кандидатуру? - продолжила она, и голос её звучал ангельски невинно. - Я вся во внимании. Только в этот раз говорите почётче. Вероятно, зубные протезы Вам мешают.

 Внутри Дашкова что-то рухнуло и покатилось в тартарары, разнося вдребезги все предохранители: "Мать честная, да что ж это такое! Тысяча чертей и одна ведьма в придачу! Она сейчас всё разнесёт к чёртовой матери! Это Феликсу подавать документы, не тебе, дура стоеросовая с гонором на три губернии! Чтоб тебя черти в ступе толкли со всей твоей гордостью, чтоб тебе икалось на том свете за каждое слово! Язык без костей - это ещё мягко сказано, у тебя там, мать твою, помело вставлено вместо приличного женского рта! Лезть под пули - это пожалуйста, это с превеликим удовольствием, а как головой подумать, так у нас голова для чего? Для причёски? Чтоб тебя разорвало, женщина!". Ни один мускул на его лице, впрочем, не дрогнул - разве что он вдохнул чуть глубже обычного.
Внутри Дашкова что-то рухнуло и покатилось в тартарары, разнося вдребезги все предохранители: "Мать честная, да что ж это такое! Тысяча чертей и одна ведьма в придачу! Она сейчас всё разнесёт к чёртовой матери! Это Феликсу подавать документы, не тебе, дура стоеросовая с гонором на три губернии! Чтоб тебя черти в ступе толкли со всей твоей гордостью, чтоб тебе икалось на том свете за каждое слово! Язык без костей - это ещё мягко сказано, у тебя там, мать твою, помело вставлено вместо приличного женского рта! Лезть под пули - это пожалуйста, это с превеликим удовольствием, а как головой подумать, так у нас голова для чего? Для причёски? Чтоб тебя разорвало, женщина!". Ни один мускул на его лице, впрочем, не дрогнул - разве что он вдохнул чуть глубже обычного.

 Он шагнул вперёд, заслоняя её собой от членов Совета, и его голос, когда он заговорил, был сама безупречная вежливость:
Он шагнул вперёд, заслоняя её собой от членов Совета, и его голос, когда он заговорил, был сама безупречная вежливость:
- Господа, прошу простить нас. Татьяна Алексеевна, - он повернулся к ней, и в его взгляде мелькнуло такое, от чего менее опытные сотрудники разбегались по углам, - у меня к Вам несколько срочных вопросов по вашему последнему делу. Если позволите.

 Дашков не ждал ответа - кивнул в сторону лестницы, жестом приглашая Феликса следовать за ними.
Дашков не ждал ответа - кивнул в сторону лестницы, жестом приглашая Феликса следовать за ними.

 Они поднялись на несколько ступеней - ровно настолько, чтобы голоса не долетали до зала, но чтобы их всё ещё было видно. Дашков остановился, развернулся к ним и заговорил спокойно, сухо, без единой нотки эмоций.
Они поднялись на несколько ступеней - ровно настолько, чтобы голоса не долетали до зала, но чтобы их всё ещё было видно. Дашков остановился, развернулся к ним и заговорил спокойно, сухо, без единой нотки эмоций.
- Как я ранее уже говорил, - произнёс он ровно. - Вы только что имели честь лицезреть двух из трёх членов Верховного Совета. Именно они вместе с графом Свечниковым ставят последнюю подпись под разрешением на обращение. Их слово - окончательное. Они могут отменить любое решение нижних инстанций. - Он перевёл взгляд на Татьяну. - Как Вы понимаете, их мнение решающее и самое главное.

 Пауза. Короткая, но ёмкая.
Пауза. Короткая, но ёмкая.

 В его голосе не было обвинения. Только сухие факты, выложенные на стол, как улики. Но взгляд, которым он стрельнул в Татьяну, говорил сам за себя: это ты сейчас сделала. Ты. Своим длинным языком.
В его голосе не было обвинения. Только сухие факты, выложенные на стол, как улики. Но взгляд, которым он стрельнул в Татьяну, говорил сам за себя: это ты сейчас сделала. Ты. Своим длинным языком.
- Это значительно усложняет задачу, - добавил он спокойно.

 Дмитрий перевёл взгляд на Феликса. Представил, как тот теперь, вероятно, нервничает, переживает, что миссия оказалась под угрозой.
Дмитрий перевёл взгляд на Феликса. Представил, как тот теперь, вероятно, нервничает, переживает, что миссия оказалась под угрозой.
- Не переживайте, - он чуть смягчился, подошёл к нему на полшага. - Пока ещё не всё потеряно. Продолжим.

 Он зашагал вверх по лестнице, не оборачиваясь.
Он зашагал вверх по лестнице, не оборачиваясь.

 Они поднялись на второй этаж, где гул голосов становился гуще, а свет люстр ярче. Дашков остановился на мгновение, окидывая взглядом залу, и двинулся вперёд, становясь тем, кем должен быть здесь - безупречным проводником в мире, где каждый жест имел вес.
Они поднялись на второй этаж, где гул голосов становился гуще, а свет люстр ярче. Дашков остановился на мгновение, окидывая взглядом залу, и двинулся вперёд, становясь тем, кем должен быть здесь - безупречным проводником в мире, где каждый жест имел вес.
- Павел Петрович, - Дашков остановился перед высоким седовласым мужчиной с надменным выражением лица, - позвольте представить вам князя Юсупова, Феликса Феликсовича младшего.

 Шувалов перевёл взгляд на Феликса. Изучающий, холодный, без тени улыбки. Задержался на секунду дольше, чем требовала вежливость, будто прикидывая, стоит ли вообще тратить время.
Шувалов перевёл взгляд на Феликса. Изучающий, холодный, без тени улыбки. Задержался на секунду дольше, чем требовала вежливость, будто прикидывая, стоит ли вообще тратить время.
- Князь, - кивнул он наконец. - Молоды. Очень молоды. Я слышал, Вы планируете подавать прошение об обращении. Чем планируете заниматься после?

 Вопрос повис в воздухе, требуя ответа. Шувалов ждал, и в его глазах читалось: ну, покажи, что у тебя есть.
Вопрос повис в воздухе, требуя ответа. Шувалов ждал, и в его глазах читалось: ну, покажи, что у тебя есть.

 Татьяна, стоявшая чуть поодаль, дождалась ответа Феликса на вопрос и вдруг шагнула ближе, оказываясь в поле зрения Шувалова. Тот перевёл на неё взгляд - и бровь его чуть приподнялась.
Татьяна, стоявшая чуть поодаль, дождалась ответа Феликса на вопрос и вдруг шагнула ближе, оказываясь в поле зрения Шувалова. Тот перевёл на неё взгляд - и бровь его чуть приподнялась.
- Павел Петрович, Вы всё такой же негостеприимный, - произнесла она с той особенной, тёплой интонацией, которую приберегала для тех, кого стоило расположить. - Человек только вошёл, а Вы уже с допросом.

 Шувалов хмыкнул коротко, но без прежней холодности.
Шувалов хмыкнул коротко, но без прежней холодности.
- Татьяна Алексеевна, - в его голосе мелькнуло что-то похожее на усталую снисходительность. - Вы всё так же лезете, куда не просят.
- А Вы всё так же не умеете радоваться новым лицам, - парировала она с улыбкой, которая могла сойти за кокетливую, если бы не лёгкий, едва уловимый яд в уголках губ. - Дайте человеку освоиться. Он к нам надолго, если Вы, старые ворчуны, не распугаете всех раньше времени.

 Шувалов фыркнул, но в его глазах мелькнуло что-то похожее на одобрение. Он снова посмотрел на Феликса уже чуть теплее.
Шувалов фыркнул, но в его глазах мелькнуло что-то похожее на одобрение. Он снова посмотрел на Феликса уже чуть теплее.
- Держитесь подальше от этой женщины, князь, - посоветовал он сухо. - Она опасна. И язык у неё, как бритва.
- А Вы всё комплименты раздаёте, - Татьяна рассмеялась, и в этом смехе не было ни капли обиды. - Идите уже, Павел Петрович, не смущайте молодёжь.

 Шувалов покачал головой и отошёл, но Дашков заметил: краем глаза он ещё раз окинул Феликса оценивающим взглядом. Запомнил. Это уже хорошо.
Шувалов покачал головой и отошёл, но Дашков заметил: краем глаза он ещё раз окинул Феликса оценивающим взглядом. Запомнил. Это уже хорошо.
- Дальше, - бросил Дашков и повёл их дальше, лавируя между группами гостей.

 Она шла рядом с Феликсом, касалась его руки, улыбалась ему, и Дашков видел это. Видел каждое движение, каждый взгляд. И молчал. Потому что это было не его дело. Потому что он был только ширмой. Только прикрытием. Только тем, кто выведет и представит.
Она шла рядом с Феликсом, касалась его руки, улыбалась ему, и Дашков видел это. Видел каждое движение, каждый взгляд. И молчал. Потому что это было не его дело. Потому что он был только ширмой. Только прикрытием. Только тем, кто выведет и представит.

 Князь Щербатов нашёлся у окна, в компании двух пожилых дам, которых Татьяна немедленно идентифицировала как его жену и тёщу. Щербатов увидел их первым - и лицо его вытянулось.
Князь Щербатов нашёлся у окна, в компании двух пожилых дам, которых Татьяна немедленно идентифицировала как его жену и тёщу. Щербатов увидел их первым - и лицо его вытянулось.
- Алексей Григорьевич, - Дашков подошёл с безупречной учтивостью, - позвольте представить Вам князя Юсупова. Феликс Феликсович, это князь Щербатов, один из представителей Комитета - организации, выше которой стоит только Совет. Щербатов входит туда как представитель счётной палаты Дружины.

 Щербатов переглянулся с женой, потом уставился на Феликса с тем особенным, подозрительным прищуром, за которым крылась паранойя человека, вечно ожидающего подвоха.
Щербатов переглянулся с женой, потом уставился на Феликса с тем особенным, подозрительным прищуром, за которым крылась паранойя человека, вечно ожидающего подвоха.
- Юсупов? - переспросил он. - Сын Зинаиды? Что ж, наслышан. Чем обязаны?

 Вопрос был задан тоном, не предполагающим тёплого ответа. Щербатов явно ждал подвоха.
Вопрос был задан тоном, не предполагающим тёплого ответа. Щербатов явно ждал подвоха.

 Татьяна шагнула вперёд, заслоняя Феликса собой - ровно настолько, чтобы это выглядело естественно.
Татьяна шагнула вперёд, заслоняя Феликса собой - ровно настолько, чтобы это выглядело естественно.
- Алексей Григорьевич, голубчик, - пропела она, и в её голосе зазвучали те самые медовые ноты, которые она обычно приберегала для самых опасных собеседников, - Вы всё такой же подозрительный. Князь просто хочет познакомиться с Дружиной. Неужели это преступление?
- С Вашей компанией, Татьяна Алексеевна, - отрезал Щербатов, - всегда преступление.

 "Семьдесят четыре...." - Дашков считал про себя от одного по порядку, чтобы успокоиться, и следил до дыхания. Надеялся остановиться на ста, но было ясно, что успокоится он только ближе к тысячи.
"Семьдесят четыре...." - Дашков считал про себя от одного по порядку, чтобы успокоиться, и следил до дыхания. Надеялся остановиться на ста, но было ясно, что успокоится он только ближе к тысячи.

 Щербатов заложил руки за спину, перевёл взгляд на Феликса. Откровенно оценивающий - причём он явно оценивал не только компанию и манеры Феликса, но и сколько тот потратил на костюм, какой бюджет могли выделять младшему отпрыску рода Юсуповых.
Щербатов заложил руки за спину, перевёл взгляд на Феликса. Откровенно оценивающий - причём он явно оценивал не только компанию и манеры Феликса, но и сколько тот потратил на костюм, какой бюджет могли выделять младшему отпрыску рода Юсуповых.
- Позвольте полюбопытствовать... Что Дружина приобретёт полезного, если Вы станете упырём?
Неделя, проведенная в подаренной квартире вместе с Татьяной, пролетела незаметно. Теперь настала пора отказаться от звонкого смеха, чтения книг на французском, горячий объятий и долгих ночей в угоду дворца на Мойке, где контролировался каждый шаг.
Феликс застыл на пороге, не сразу решившись открыть дверь. Петли предательски проскрипели, выдавая его присутствие, и тишина стен сменилась топотом ног, переговариванием слуг и далёкими голосами родных, что звучали из комнат.
Юсупов вздохнул. Воспоминания навалились на него тяжелым грузом и в какой-то момент захотелось снова сбежать. Рука в задумчивости задержала пальто над вешалкой и едва не накинула его обратно на плечи.
- Где ты был?
Голос за спиной заставил вздрогнуть и петля лопнула, сбросив одежду на пол.
Феликс обернулся и тут же наткнулся на Николая. Взгляд у брата был тяжёлым, цепким и в нём, удивительным образом, узнавался отец.
Голова Юсупова пристыжано вжалась в плечи, когда родственник сделал несколько быстрых и решительных шагов навстречу. По кожу побежали мурашки и Феликса затошнило. Появилась тупая боль в районе виска - верный признак грядущего кровотечения из носа.
- Ты вообще отдаешь себе отчёт, что за эти дни можно было хотя бы записку прислать? Одну. Чёртову. Записку.
Последние слова были процежены сквозь зубы и ощущались Феликсом как шлепки по лбу.
Николай шагнул ещё ближе и сердце Юсупова запрыгало в груди напуганной птахой. Юноше тогда показалось, что брат впервые поднимет на него руку не в шутливой форме, а в той самой, которую любил отец.
- Мы тебя по всем вашим гимназическим приятелям искали. По всем, слышите? Сначала думали - у того, потом - у другого, потом уже начали допрашивать, как будто вы сбежали не из дома, а с каторги. Ты хоть понимаешь, что мы...что мать...
Феликс насупился. Понимал, разумеется, понимал, но чувствовал он себя на Мойке именно что на каторге. На холодной, где никому нет до тебя никакого дела.
Николай отвёл взгляд в сторону, будто прочитал мысли Феликса и ему стало стыдно. Выдохнул коротко, рвано, а затем сделал ещё один шаг навстречу. Руки неловко притянули брата и Юсупов обмяк, почти срываясь на постыдный плач.
- Слава Богу. Только попробуй ещё раз так исчезнуть.
В голосе звучалась угроза, но она была ласковой, от большой любви.
Николай стиснул Феликса сильнее и тот вцепился холодными пальцами в одежду в ответ. Боялся отпустить так же, как боялся потерять Татьяну.
- Я... я уже был готов сказать им про Ораниенбаум, - выдавил из себя Николай.
Феликс в его объятиях дернулся и тут же устремил на брата гневный взгляд. Губы приоткрылись, готовые изойтись на злобное шипение.
- Не бойся, я не проболтался. Но мы... но я... так волновались. Я боялся, что больше тебя не увижу, балбес.
Феликс тогда ничего не ответил. Ему казалось - что могло случиться? Подумаешь, сбежал! У них с братом вся жизнь впереди, полная таких безрассудных выходок.
Сверху послышалось шуршание многочисленных юбок и матушка появилась на лестнице. Сбежала прыткой ланью и оказалась возле Феликса. Бледная, похожая на фарфоровую куклу.
- Феликс… - выдохнула она.
Женщина не удержалась. Подошла вплотную и буквально выдернула младшего сына из рука Николая. Прижала к себе и Юсупов мог чувствовать, как дрожало её сердце.
- Прости меня. Прости… за всё, что было… за этот вечер… за то, что… что я тогда…
Она захлебывалась в рыданиях, а Феликс чувствовал себя тряпичной куклой в материнских руках. Тогда он не мог сказать ни единого слова.
- Прости. Я не должна была допустить… не должна была… Я… я думала, что поступаю правильно. А вышло…
Юсупов вдруг отстранился. Не решительно и твердо, а мягко, чтобы, наконец, заглянуть в заплаканное лицо женщины.
- Вам не за что извиняться.
Голос прозвучал удивительно твёрдо. Не потому что пытался убедить себя или её, а потому что действительно верил и знал - к нему не вышел тот, кто действительно должен извиняться.
Феликс выдавил из себя улыбку.
- Что за трагедия? Я же вернулся, - сказал он задорно. - Пойдёмте пить чай. На улице так морозно сегодня. Можно будет сходить погулять.
Юсупов взял Зинаиду Николаевну под руку и элегантно повел в сторону гостевой, где предпочитали сидеть раньше.
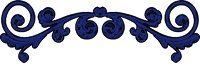
конец эпизода


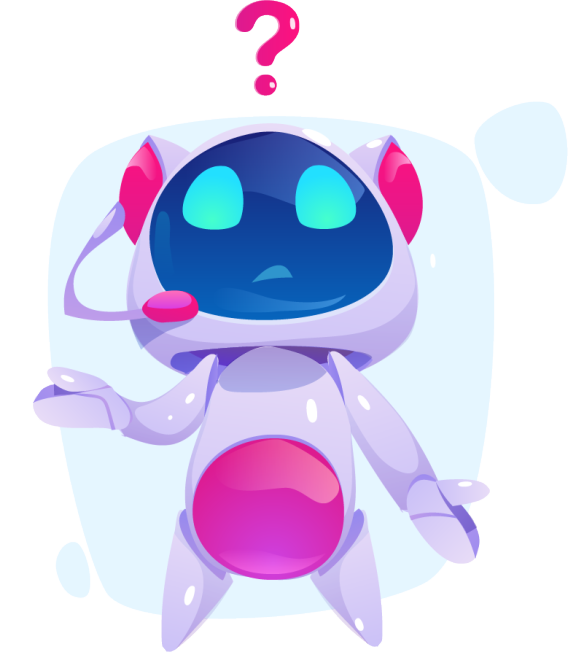
Не проблема! Введите адрес почты, чтобы получить ключ восстановления пароля.
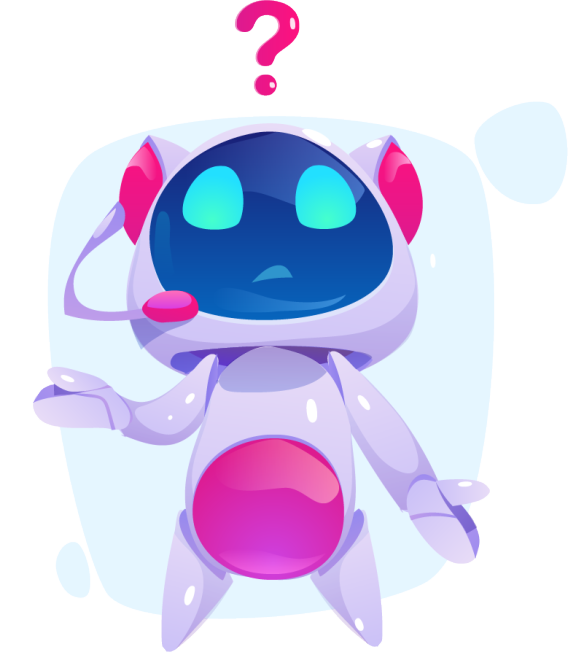
Код активации выслан на указанный вами электронный адрес, проверьте вашу почту.
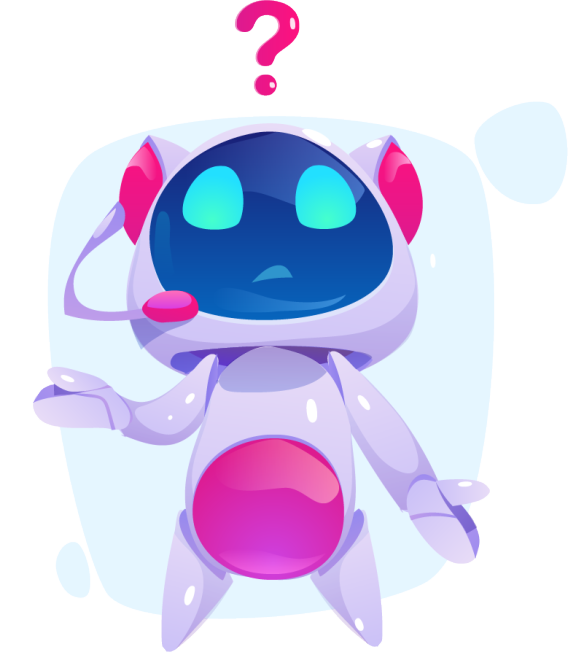
Код активации выслан на указанный вами электронный адрес, проверьте вашу почту.

-
Simpleton
22 февраля 2026 в 13:37:37

-
рори
22 февраля 2026 в 14:10:51


 Осеннее утро окончательно потеряло стыд. Небо набрякло свинцовой тяжестью, готовой пролиться в любую секунду, и воздух стоял такой плотный, что, казалось, его можно было резать ножом - густой, влажный, пропитанный запахом прелой листвы и близкой грозы. Где-то далеко, за крышами, ворочался гром, лениво перебирая свои пожитки, будто решал - стоит ли сегодня вообще напрягаться или проще развалиться обратно по щелям.
Осеннее утро окончательно потеряло стыд. Небо набрякло свинцовой тяжестью, готовой пролиться в любую секунду, и воздух стоял такой плотный, что, казалось, его можно было резать ножом - густой, влажный, пропитанный запахом прелой листвы и близкой грозы. Где-то далеко, за крышами, ворочался гром, лениво перебирая свои пожитки, будто решал - стоит ли сегодня вообще напрягаться или проще развалиться обратно по щелям.

 Рома стоял, впаянный в этот воздух, и чувствовал, как внутри него закипает то самое, знакомое до оскомины, состояние, когда всё вокруг начинает бесить ровно до той секунды, пока рядом есть она. А она была. Васька стояла в двух шагах, и её взгляд - тяжёлый, проникающий под кожу, будто она не смотрела, а прощупывала внутренности на предмет слабых мест - впился в него с новой силой.
Рома стоял, впаянный в этот воздух, и чувствовал, как внутри него закипает то самое, знакомое до оскомины, состояние, когда всё вокруг начинает бесить ровно до той секунды, пока рядом есть она. А она была. Васька стояла в двух шагах, и её взгляд - тяжёлый, проникающий под кожу, будто она не смотрела, а прощупывала внутренности на предмет слабых мест - впился в него с новой силой.

 Губы её растянулись в улыбке, обнажив клык, и Рома почувствовал, как внутри что-то ёкнуло. Не страх. Нет. Что-то другое, более древнее и опасное.
Губы её растянулись в улыбке, обнажив клык, и Рома почувствовал, как внутри что-то ёкнуло. Не страх. Нет. Что-то другое, более древнее и опасное.

 Он открыл рот, чтобы ответить, чтобы выдать что-то острое, своё, роминское, но Шуруп, как обычно, вклинился раньше, своим неуёмным, вечно фонтанирующим энтузиазмом перекрывая кислород любому серьёзному разговору.
Он открыл рот, чтобы ответить, чтобы выдать что-то острое, своё, роминское, но Шуруп, как обычно, вклинился раньше, своим неуёмным, вечно фонтанирующим энтузиазмом перекрывая кислород любому серьёзному разговору.

 Было очевидно, что реплика была обращена не к нему, но он нарочно пытался сгладить острые углы.
Было очевидно, что реплика была обращена не к нему, но он нарочно пытался сгладить острые углы.

 Васька рассмеялась тем самым своим хриплым, рваным смехом, который переходил в шум порченного мотора. Она запрокинула голову, и Рома видел, как ходит вверх-вниз её кадык, как напрягается шея, как блестят глаза в тусклом свете пасмурного утра. Красивая. До безумия, до ломоты в зубах, до желания схватить и утащить куда-нибудь, где нет ни Шурупа, ни Кости, ни этой грёбаной Мологи с её сплетнями и пересудами.
Васька рассмеялась тем самым своим хриплым, рваным смехом, который переходил в шум порченного мотора. Она запрокинула голову, и Рома видел, как ходит вверх-вниз её кадык, как напрягается шея, как блестят глаза в тусклом свете пасмурного утра. Красивая. До безумия, до ломоты в зубах, до желания схватить и утащить куда-нибудь, где нет ни Шурупа, ни Кости, ни этой грёбаной Мологи с её сплетнями и пересудами.

 Рома дёрнулся, будто от пощёчины. Он видел, как кривится её рот в раздражении, в отвращении, в чём-то ещё, что он не мог прочитать, но что резало без ножа. Она не принимала. Она насмехалась. Она вешала на них с Шурупом клеймо, от которого внутри всё переворачивалось и вставало дыбом.
Рома дёрнулся, будто от пощёчины. Он видел, как кривится её рот в раздражении, в отвращении, в чём-то ещё, что он не мог прочитать, но что резало без ножа. Она не принимала. Она насмехалась. Она вешала на них с Шурупом клеймо, от которого внутри всё переворачивалось и вставало дыбом.

 Шуруп же, абсолютно не чувствуя подвоха, расцвёл, как маков цвет.
Шуруп же, абсолютно не чувствуя подвоха, расцвёл, как маков цвет.

 Услышав Васино требование, он не просто оживился - он буквально подпрыгнул на месте, будто ему в задницу воткнули электрод.
Услышав Васино требование, он не просто оживился - он буквально подпрыгнул на месте, будто ему в задницу воткнули электрод.

 Алиса потупила взгляд, чуть покраснела от внезапной оголённости мальчишеского тела, и отвела взгляд в сторону.
Алиса потупила взгляд, чуть покраснела от внезапной оголённости мальчишеского тела, и отвела взгляд в сторону.

 Он крутанулся на месте, демонстрируя прокол со всех сторон, и его глаза горели таким искренним, детским восторгом, что это было почти трогательно. Почти.
Он крутанулся на месте, демонстрируя прокол со всех сторон, и его глаза горели таким искренним, детским восторгом, что это было почти трогательно. Почти.

 Рома смотрел на это представление, и внутри него закипала лава. Медленно, вязко, тяжело. Каждый мускул его тела напрягся, превращаясь в тугую пружину. Челюсть сжалась так, что на скулах заходили желваки, перекатываясь под кожей, как живые. Он видел, как Шуруп крутится перед Васей, как оголяет перед ней своё тощее, нелепое тело, как ловит её взгляд, её внимание, и внутри всё кричало: "Не смей, мразь. Не смей к ней прикасаться даже взглядом".
Рома смотрел на это представление, и внутри него закипала лава. Медленно, вязко, тяжело. Каждый мускул его тела напрягся, превращаясь в тугую пружину. Челюсть сжалась так, что на скулах заходили желваки, перекатываясь под кожей, как живые. Он видел, как Шуруп крутится перед Васей, как оголяет перед ней своё тощее, нелепое тело, как ловит её взгляд, её внимание, и внутри всё кричало: "Не смей, мразь. Не смей к ней прикасаться даже взглядом".

 Он не ревновал. Нет. Это было не то слово. Это было что-то первобытное, животное, и всё естество требовало порвать, размазать, уничтожить. Кулаки сжались сами собой, ногти впились в ладони, но боли он не чувствовал. Только горячую, обжигающую ярость, которая разливалась по венам вместо крови.
Он не ревновал. Нет. Это было не то слово. Это было что-то первобытное, животное, и всё естество требовало порвать, размазать, уничтожить. Кулаки сжались сами собой, ногти впились в ладони, но боли он не чувствовал. Только горячую, обжигающую ярость, которая разливалась по венам вместо крови.

 Шуруп тем временем, увлечённый своей презентацией, окончательно потерял берега. Он болтал без умолку, рассказывая какие-то нелепые подробности процесса, и в какой-то момент его рука потянулась к Васе поправить выбившуюся прядь волос, просто так, машинально, как он делал это со всеми, когда слишком сильно увлекался разговором. Жест привычный, почти рефлекторный, не несущий в себе ровным счётом ничего, кроме дурацкой шуруповской привычки нарушать личные границы.
Шуруп тем временем, увлечённый своей презентацией, окончательно потерял берега. Он болтал без умолку, рассказывая какие-то нелепые подробности процесса, и в какой-то момент его рука потянулась к Васе поправить выбившуюся прядь волос, просто так, машинально, как он делал это со всеми, когда слишком сильно увлекался разговором. Жест привычный, почти рефлекторный, не несущий в себе ровным счётом ничего, кроме дурацкой шуруповской привычки нарушать личные границы.

 Рома увидел это движение. И внутри него что-то оборвалось.
Рома увидел это движение. И внутри него что-то оборвалось.

 Он не понял, как преодолел разделяющее их расстояние. Просто в какой-то момент земля ушла из-под ног, и он уже был рядом, а его рука, тяжёлая и злая, врезалась в Шурупово плечо с такой силой, что того отбросило в сторону, будто тряпичную куклу.
Он не понял, как преодолел разделяющее их расстояние. Просто в какой-то момент земля ушла из-под ног, и он уже был рядом, а его рука, тяжёлая и злая, врезалась в Шурупово плечо с такой силой, что того отбросило в сторону, будто тряпичную куклу.

 Шуруп, не ожидавший такого наскока, отлетел к обочине, пару раз моргнул, переваривая происходящее, и вдруг расплылся в совершенно идиотской, нахальной улыбке.
Шуруп, не ожидавший такого наскока, отлетел к обочине, пару раз моргнул, переваривая происходящее, и вдруг расплылся в совершенно идиотской, нахальной улыбке.

 Рома не слушал. Он уже развернулся к Васе, и его рука, тяжёлая, горячая, собственническая, легла ей на плечо, притягивая ближе, вжимая в свой бок, будто он имел на это полное право. Будто она была его вещью, которую он только что отбил у посягателя.
Рома не слушал. Он уже развернулся к Васе, и его рука, тяжёлая, горячая, собственническая, легла ей на плечо, притягивая ближе, вжимая в свой бок, будто он имел на это полное право. Будто она была его вещью, которую он только что отбил у посягателя.

 Он повёл её в сторону, увлекая за собой, подальше от Шурупа, подальше от опасности, подальше от всего, что могло бы её коснуться без его разрешения. Его пальцы впивались в её плечо с такой силой, что, наверное, останутся синяки, но он не замечал этого. В голове шумело, в ушах стучала кровь.
Он повёл её в сторону, увлекая за собой, подальше от Шурупа, подальше от опасности, подальше от всего, что могло бы её коснуться без его разрешения. Его пальцы впивались в её плечо с такой силой, что, наверное, останутся синяки, но он не замечал этого. В голове шумело, в ушах стучала кровь.

 Алиса стояла чуть поодаль и наблюдала за всей этой сценой с чувством, которое невозможно было описать одним словом. Сначала - отстранённое любопытство, потом лёгкое недоумение, а теперь - глухая, вязкая пустота где-то в груди. Ваську уводили. Ваську обнимали, забирали, присваивали. А она оставалась здесь, на обочине.
Алиса стояла чуть поодаль и наблюдала за всей этой сценой с чувством, которое невозможно было описать одним словом. Сначала - отстранённое любопытство, потом лёгкое недоумение, а теперь - глухая, вязкая пустота где-то в груди. Ваську уводили. Ваську обнимали, забирали, присваивали. А она оставалась здесь, на обочине.

 Алиса покосилась на Костю. Ей показалось, что он поглядывал на Васю с боковым зрением с какой-то... ревностью? О, влюбился. Конечно, влюбился. Как же иначе.
Алиса покосилась на Костю. Ей показалось, что он поглядывал на Васю с боковым зрением с какой-то... ревностью? О, влюбился. Конечно, влюбился. Как же иначе.

 Она могла бы промолчать. Могла бы развернуться и уйти, сделав вид, что ей всё равно. Но внутри заскребло знакомое, ехидное, то самое, что заставляло её цепляться к Косте с самого первого дня.
Она могла бы промолчать. Могла бы развернуться и уйти, сделав вид, что ей всё равно. Но внутри заскребло знакомое, ехидное, то самое, что заставляло её цепляться к Косте с самого первого дня.

 Она скрестила руки на груди и чуть наклонила голову, разглядывая Костю с тем самым выражением, которое обычно выводило его из себя - смесь превосходства и насмешки.
Она скрестила руки на груди и чуть наклонила голову, разглядывая Костю с тем самым выражением, которое обычно выводило его из себя - смесь превосходства и насмешки.

 Она хмыкнула, но внутри не было удовлетворения. Была только та же пустота, которую она пыталась заглушить привычным способом - цепляясь к Косте, задирая его, провоцируя на ответную реакцию. Потому что когда он злился, когда отвечал, когда включался в их вечную перепалку, она хотя бы на минуту переставала чувствовать себя невидимкой.
Она хмыкнула, но внутри не было удовлетворения. Была только та же пустота, которую она пыталась заглушить привычным способом - цепляясь к Косте, задирая его, провоцируя на ответную реакцию. Потому что когда он злился, когда отвечал, когда включался в их вечную перепалку, она хотя бы на минуту переставала чувствовать себя невидимкой.
Показать предыдущие сообщения (7)Не успела Сыса закончить фразу, как сзади что-то хлопнуло: то ли очко Ромки, то ли его терпение, то ли это вообще Шурупа разорвало от восторга, а Васька просто не поняла. Мгновение всё было тихо, а затем послышался возмущенный голос, почти что командирский.
- Ты чё, Сыс, совсем охренела?
Девчонка обернулась резко и взгляд у неё снова стал тяжёлым, проникающим под кожу. В нём не то что теплилась фраза: «Ты чё, говно, попутал?!», она буквально там жила.
- Этому обдолбанному еноту доверишь дырявить то, что я ещё не...
Бровь вопросительно дёрнулась, а внутри предательски кольнуло. Губы сразу же растянулись в хищной улыбке и даже показался один из клыков.
- Что ты «ещё не»? - поинтересовалась Васька и качнула подбородком, будто это могло вытянуть ответ из Ромки.
В пальце, тем временем, начинало свербеть и если бы не «захват» шеи Шурупа, то непременно запутался в волосах, наматывая прядь на кончик.
Рома не ответил. Шагнул к ним решительно и вклинился без разрешения между, разбивая объятия, как ладони в споре. Приткнулся ближе к Ваське, вызывая презрительное фырканье, но никакого сопротивления.
- Слышь, металлолом ходячий, вали отседова со своими побрякушками, - обратился мальчишка к Шурупу и голос у него в тот момент был хриплым, грубоватым. - Нашла кому доверять стратегически важные объекты. Он себе в ушах дырок наделал столько, что ветер свистит насквозь!
- Ты, пузатый командир... - начала было Васька, но мысль не закончила.
Шуруп в тот момент остановился и лицо его, вместо того, чтобы оскорбиться на фразу товарища, вдруг приняло удивлённое выражение. Уголки губ дрогнули и изо рта вырвалось восторженное:
- Ого!
Лицо Шурупа просияло и он затараторил с весельем и привычной наглостью, снова напоминая напуганную сороку.
- А кто-то минуту назад стоял с языком, примороженным к жопе, а сейчас готов за мной с ножом гоняться. Вась, а ты заметила? У нашего Ромы прорезались собственнические инстинкты. Поздравляю, ты разбудила зверя. Кормить теперь его придётся, гладить, а то загрызёт кого-нибудь.
Васька рассмеялась, запрокидывая голову назад. Смех у неё был всё таким же хриплым, но сейчас перешёл в самый настоящий шум порченного мотора.
- Так у вас любовь? А чё вы молчали? Этого не стыдятся!
Голос у неё был громким, озорным. Казалось, что она специально кричала это, чтобы вся Молога повесила на мальчишек клеймо тех, кто «под хвост долбится». Да и звучала так, будто самка принимала, только рот кривился в раздражении и отвращении.
Алиска, что до этого шла позади и не подавала признаков жизни, вдруг хихикнула. Смех у неё был звонким, похожим на звон маленького колокольчика, по крайней мере, так показалось Ваське.
- Два петуха на одном насесте, - ехидно протянула девчонка. - Сейчас ещё передерутся за право быть главным.
Сыса хотела заметить, что мальчишки у них полные дураки и не знают, что, на самом деле, главари тут девчонки и никак иначе, но Ромка снова влез.
- Цыц, мелочь. Не лезь, а то накостыляю.
Взгляд его снова вернулся к Ваське и та лишь вздёрнула подбородок. Повисло молчание, будто два хищника готовились к прыжку, а затем Ромка выдохнул.
- Ладно, Сыс, твоя взяла. Хочешь дырявить у этого клоуна - дырявь. Только потом не жалуйся, что заржавеет.
Мальчишка шагнул вперёд, толкая Ваську боком, и тут же возглавил их странное шествие. Сысе оставалось только пялиться Роме в спину и понимать - разговор окончен и последнее слово осталось за ним. «Вот жешь сука!» - выругалась девчонка про себя и челюсть от раздражения клацнула, напоминая капкан.
Шуруп вернулся сразу же. Подкрался, будто ящерица и снова приткнулся аккурат между девчонками. Лицо его сияло и никакое напряжение мальчишку совершенно не смущало.
- Так что там по серёжке? - поинтересовался он и Васька стрельнула в него недовольным взглядом, но тут же снова стала буравить спину Ромки. - Я, между прочим, спец широкого профиля. Губу могу проколоть - классика, со вкусом, будет блестеть на солнце, все пацаны обзавидуются. Или может соображу кое-что поинтимнее. Скажем... сосок. Это такой финт, что у братков не только хуй встанет, но и глаза из орбит вывалятся. У меня вот проколот. Хочешь, покажу?
Шуруп хохотнул, но тут же осекся, когда поймал на себе взгляд Алисы. Вроде такая маленькая, а смотрела иногда так, будто проклясть была способна.
- Я себе сосок сам делал. Думал, если выживу, значит, господь меня любит и хочет, чтобы я жил и мучил людей своим юмором. Выжил. Так что если надо - обращайся. Я хоть и долбанутый, но руки из нужного места растут. Иногда.
Васька вдруг остановилась.
- Покажи, - заявила она нагло, будто просила номер по математике продиктовать. - Покажи-покажи. Мы и мне такой же сделаем, а ещё лучше...Оба. Да, оба. Можно же так?
- Что ты «ещё не»? - спросила она, и бровь её дёрнулась, выдавая хищное, кошачье любопытство.
- Ты, пузатый командир..
- Пузатый командир? - переспросил Шуруп, хватаясь за сердце с видом оскорблённого достоинства.
- Слышь, Сыс, ты бы поаккуратнее с терминологией. У меня, может, не пузо, а стратегический запас нежности. А командир - это да, согласен. Только командую я исключительно парадом собственных тараканов, а они, сука, дисциплине не поддаются, хоть ты тресни.
- Так у вас любовь? А чё вы молчали? Этого не стыдятся! - крикнула она громко, озорно, и голос её разнёсся по пустырю, врезаясь в стены гаражей и отскакивая от них эхом.
- Покажи. Покажи-покажи. Мы и мне такой же сделаем, а ещё лучше...Оба. Да, оба. Можно же так?
- Показать? Легко! - завопил он и, не дожидаясь повторного приглашения, рванул футболку вверх, оголяя тощий, бледный торс, на котором, словно одинокий маяк в море белой кожи, красовался маленький металлический блеск.
- Вот, любуйся, Сыс! - провозгласил он, выпятив грудь колесом и поглаживая себя по соску с гордостью первооткрывателя. - Эксклюзив, ручная работа, между прочим. Сам делал. Лёжа на диване, под какое-то говно по телеку, которое даже не запомнил.
- Ты охренел, петушара? - голос Ромы сел, просел куда-то в самые низы, став хриплым, рваным, почти неузнаваемым. - Ты на кого лапы свои кривые тянешь, гнида малосольная? Я твой пирсинг сейчас вместе с башкой оторву и в жопу тебе засуну, чтоб знал, сука, где место твоим побрякушкам!
- Ого, - выдавил он, потирая ушибленное место. - А кто-то говорил, что не ревнует. Ром, у тебя слюна изо рта пошла, вытрись, а то некрасиво перед дамами.
- Пошли отсюда, Сыс, - выдохнул он ей в макушку, и голос его всё ещё дрожал от невыплеснутой ярости. - Нечего тебе с этим обдолбанным шизоидом якшаться. Он тебе такого насоветует - потом лечиться заебешься. Я тебе сам всё сделаю. Что хочешь. Только скажи.
- Чё вылупился? - спросила она, и голос её прозвучал нарочито громко, перекрывая шум ветра. - Ждёшь, когда твоя ненаглядная соизволит заметить, что ты вообще существуешь? Так это надолго. Она сейчас вся в разборках двух петухов. Тебе там места не обломится.
- Мечтай, рыцарь. Только у твоей принцессы, кажется, другие планы на сегодня.