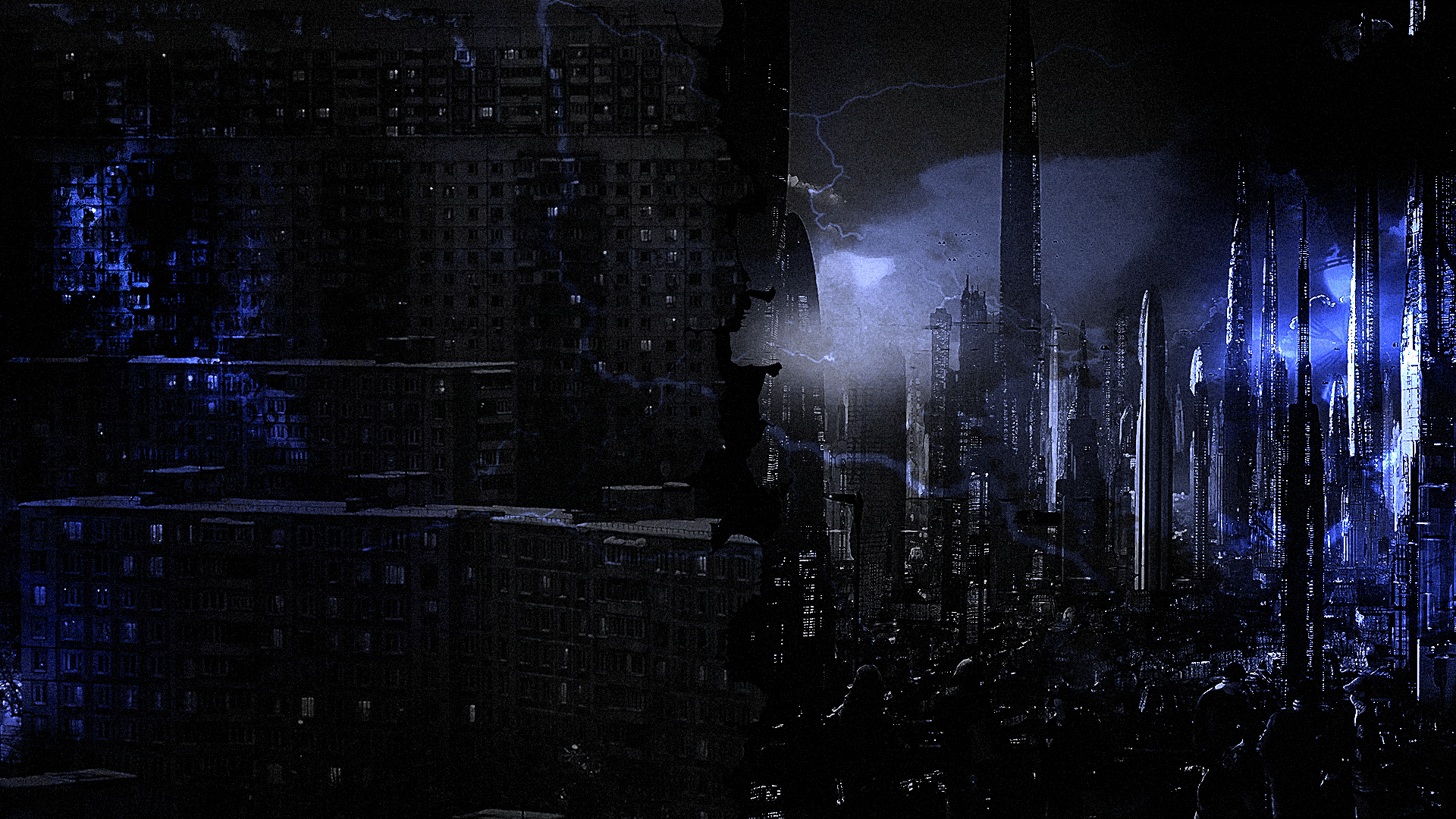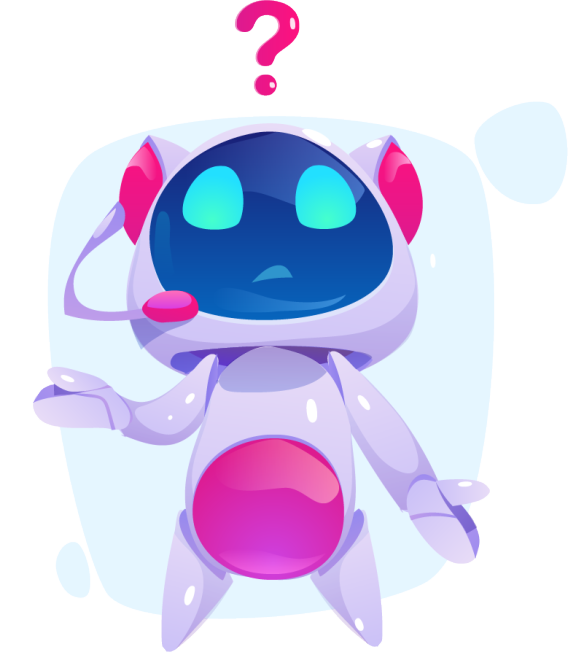В тот день дом Юсуповых стоял особенно пустым, словно его нарочно выстудили изнутри, чтобы не мешать чужим решениям. Родители уехали, прислуга ступала мягче обычного, и даже часы в гостиной тикали не столько громко, сколько нагло, как человек, которому можно всё, потому что он здесь старше всех. За окнами Петербург держался на сером свете, на влажном снежном крошеве и на том особом январском ветре, который умеет залезать под воротник без всякого приглашения, будто тоже считал себя членом семьи.
В тот день дом Юсуповых стоял особенно пустым, словно его нарочно выстудили изнутри, чтобы не мешать чужим решениям. Родители уехали, прислуга ступала мягче обычного, и даже часы в гостиной тикали не столько громко, сколько нагло, как человек, которому можно всё, потому что он здесь старше всех. За окнами Петербург держался на сером свете, на влажном снежном крошеве и на том особом январском ветре, который умеет залезать под воротник без всякого приглашения, будто тоже считал себя членом семьи.

 Николай сначала не придал значения: какие-то сборы, какие-то вещи, какие-то передвижения, но в этом доме даже тишина имела уши. А Николай, к несчастью, был не из тех, кто верил в "просто так". После Рождества "просто так" в их жизни стало выглядеть как дурная шутка, которой не хотелось смеяться.
Николай сначала не придал значения: какие-то сборы, какие-то вещи, какие-то передвижения, но в этом доме даже тишина имела уши. А Николай, к несчастью, был не из тех, кто верил в "просто так". После Рождества "просто так" в их жизни стало выглядеть как дурная шутка, которой не хотелось смеяться.

 Он вышел из своих покоев не спеша, в халате, который на нём смотрелся не домашним, а демонстративно ленивым, как у человека, имеющего право не торопиться даже к собственной драме. Волосы были убраны небрежно, но это была та небрежность, на которую у бедных людей не хватало ни времени, ни зеркал. В коридоре пахло воском, свежей полировкой и чем-то металлическим, не то от камина, не то от нервов. Николай на секунду задержался у перил, будто бы просто прислушивался к дому, а не к брату, и улыбнулся привычной улыбкой, которую в обществе принимали за лёгкость, а в семье знали как способ держать в зубах собственную тревогу, чтобы она не вырвалась.
Он вышел из своих покоев не спеша, в халате, который на нём смотрелся не домашним, а демонстративно ленивым, как у человека, имеющего право не торопиться даже к собственной драме. Волосы были убраны небрежно, но это была та небрежность, на которую у бедных людей не хватало ни времени, ни зеркал. В коридоре пахло воском, свежей полировкой и чем-то металлическим, не то от камина, не то от нервов. Николай на секунду задержался у перил, будто бы просто прислушивался к дому, а не к брату, и улыбнулся привычной улыбкой, которую в обществе принимали за лёгкость, а в семье знали как способ держать в зубах собственную тревогу, чтобы она не вырвалась.

 Феликс собирался. Это было видно по мелочам, из которых у Николая всегда складывалась правда: не по словам и не по планам, а по неправильным движениям. Николай подошёл ближе, ровно настолько, чтобы его присутствие стало фактом, от которого уже не отвертишься, и облокотился плечом о косяк, будто бы просто наблюдал за комедией, а не сторожил выход.
Феликс собирался. Это было видно по мелочам, из которых у Николая всегда складывалась правда: не по словам и не по планам, а по неправильным движениям. Николай подошёл ближе, ровно настолько, чтобы его присутствие стало фактом, от которого уже не отвертишься, и облокотился плечом о косяк, будто бы просто наблюдал за комедией, а не сторожил выход.
- Ты куда это так собрался? - спросил он голосом ровным, почти ленивым, с той ноткой светского поддразнивания, которая обычно спасала их от любых неловкостей.

 Слова были небрежные, но Николай слишком хорошо знал собственные интонации: лёгкость в них стояла отдельно.
Слова были небрежные, но Николай слишком хорошо знал собственные интонации: лёгкость в них стояла отдельно.

 Он посмотрел не на лицо брата, а на руки, потому что руки выдавали больше: спешку, напряжение, то странное сочетание точности и дрожи, которое появлялось у человека, когда он одновременно хотел уйти и чтобы его остановили. Николай не сделал шага вперёд, не перекрыл дорогу прямо, не позволил себе грубости. Он выбрал другой способ, старший, проверенный: стать препятствием не телом, а разговором. Виться вокруг, как будто просто скучал и хотел компании, как будто дом без родителей вдруг превратился в место, где всё можно, и он, Николай, был первым, кто решил этим воспользоваться.
Он посмотрел не на лицо брата, а на руки, потому что руки выдавали больше: спешку, напряжение, то странное сочетание точности и дрожи, которое появлялось у человека, когда он одновременно хотел уйти и чтобы его остановили. Николай не сделал шага вперёд, не перекрыл дорогу прямо, не позволил себе грубости. Он выбрал другой способ, старший, проверенный: стать препятствием не телом, а разговором. Виться вокруг, как будто просто скучал и хотел компании, как будто дом без родителей вдруг превратился в место, где всё можно, и он, Николай, был первым, кто решил этим воспользоваться.
- Неужели снова к Татьяне Алексеевне, наш маленький донжуан?

 Воздух между ними всё равно будто сгустился, вспомнив ремень, крик, резкую тень отца в дверном проёме, и тот короткий миг, когда Николай понял, что в доме может быть больно так, как раньше никогда не было. В Николае с тех пор жила новая привычка: считать шаги брата, как считывают дорожные знаки перед поворотом, который обещает беду.
Воздух между ними всё равно будто сгустился, вспомнив ремень, крик, резкую тень отца в дверном проёме, и тот короткий миг, когда Николай понял, что в доме может быть больно так, как раньше никогда не было. В Николае с тех пор жила новая привычка: считать шаги брата, как считывают дорожные знаки перед поворотом, который обещает беду.

 Николай оттолкнулся от косяка, прошёлся по передней, будто бы просто искал табакерку, хотя табакерка была при нём. Пальцы на секунду задержались на серебре, погладили крышку без нужды, так, как гладят вещь, чтобы не выдать, что хочется схватить человека. Он бросил взгляд на часы, нарочно, демонстративно, как делают в обществе. Потом вернул взгляд обратно, прищурился, и улыбка стала острее.
Николай оттолкнулся от косяка, прошёлся по передней, будто бы просто искал табакерку, хотя табакерка была при нём. Пальцы на секунду задержались на серебре, погладили крышку без нужды, так, как гладят вещь, чтобы не выдать, что хочется схватить человека. Он бросил взгляд на часы, нарочно, демонстративно, как делают в обществе. Потом вернул взгляд обратно, прищурился, и улыбка стала острее.
- Слушай, я же не мать и не пристав, - сказал он уже мягче, дружески. - Мне не нужно расписание твоих визитов и переписка с привратником. Ты же знаешь, что можешь рассказать мне абсолютно всё.

 Он подошёл ближе и остановился у столика с перчатками. В этой дистанции было всё: уважение к брату и попытка удержать его от очередного безрассудства. Николай наклонился, взял с подноса перчатку, которая лежала неаккуратно, и осторожно расправил её, как будто приводил в порядок не кожу, а ситуацию. В его движениях было что-то почти ласковое, но он прикрыл это привычной манерностью.
Он подошёл ближе и остановился у столика с перчатками. В этой дистанции было всё: уважение к брату и попытка удержать его от очередного безрассудства. Николай наклонился, взял с подноса перчатку, которая лежала неаккуратно, и осторожно расправил её, как будто приводил в порядок не кожу, а ситуацию. В его движениях было что-то почти ласковое, но он прикрыл это привычной манерностью.
- Я вообще-то рассчитывал, что сегодня мы будем вести себя, как приличные люди, - заметил он, бросая фразу легко, почти как о погоде. - Родителей нет. Дом наш. Можно устроить маленький заговор против скуки. Сыграть в карты. Поужинать нормально, а не на бегу, как ты любишь. Ты мог бы, в конце концов, даже… - он поднял глаза, и в этой паузе было много несказанного. - Не знаю... провести со мной время? Как мы делали раньше. Ты теперь постоянно где-то не со мной.

 Николай сделал вид, что оглядывается по сторонам, и это было почти смешно, потому что он оглядывался не на предметы, а на следы: что вынесли, что спрятали, что отвезли. Он, Николай, к своему раздражению, тоже стал человеком, который ищет улики в собственном доме. Чудесное взросление, спасибо, Господи.
Николай сделал вид, что оглядывается по сторонам, и это было почти смешно, потому что он оглядывался не на предметы, а на следы: что вынесли, что спрятали, что отвезли. Он, Николай, к своему раздражению, тоже стал человеком, который ищет улики в собственном доме. Чудесное взросление, спасибо, Господи.
- Ты же не врёшь мне, правда? Ты бы рассказа о чём-то серьёзном, если бы поехал не к Татьяне?

 Он опять попытался вернуть лёгкость, потому что лёгкость была их общим спасательным кругом, и если перестать шутить, можно было утонуть в серьёзности. Николай чуть поднял брови, словно сейчас скажет что-то дерзкое и неприличное, и сказал почти небрежно:
Он опять попытался вернуть лёгкость, потому что лёгкость была их общим спасательным кругом, и если перестать шутить, можно было утонуть в серьёзности. Николай чуть поднял брови, словно сейчас скажет что-то дерзкое и неприличное, и сказал почти небрежно:
- Я, разумеется, скажу, что желаю тебе удачи и чтобы ты не возвращался слишком счастливым, иначе мне придётся завидовать. Но если ты едешь куда-то ещё… - он не договорил, и это повисло как тонкая нить. - Тогда скажи хотя бы мне, куда. Не потому что я хочу контролировать. Потому что после Рождества у меня отвратительная привычка представлять худшее.

 Он отвернулся на секунду, будто бы проверял, закрыта ли форточка, хотя форточка была закрыта. Это было сделано только ради того, чтобы проглотить то, что подступало к горлу, и не дать этому стать театром. Потом он снова повернулся, и голос стал чуть ниже, почти интимным, без фамильярности, но с тем странным братским правом, которое не требовало доказательств.
Он отвернулся на секунду, будто бы проверял, закрыта ли форточка, хотя форточка была закрыта. Это было сделано только ради того, чтобы проглотить то, что подступало к горлу, и не дать этому стать театром. Потом он снова повернулся, и голос стал чуть ниже, почти интимным, без фамильярности, но с тем странным братским правом, которое не требовало доказательств.
- Ты вернёшься домой сегодня? Если нет, то я буду знать, где ты. Чтобы не бегать по городу, как идиот, и не поднимать людей, которых лучше не поднимать. - Он усмехнулся, но в усмешке не было веселья. - Я умею быть приятным собеседником. Но ещё я умею делать глупости из любви. Не провоцируй, мне и так хватает поводов.

 Снаружи по стеклу ударила снежная крупа, и звук получился такой, будто кто-то мелко стучал ногтями по хрусталю. В передней горела лампа, отбрасывая на стену мягкий свет, но Николай видел не свет. Он видел, как брат снова исчезает у него из-под пальцев, как между ними растёт эта новая, непрошеная стена, и как он, Николай, вынужден теперь не только шутить и жить красиво, но ещё и сторожить, и угадывать, и держать дом в руках. Он стоял ровно, с аристократической расслабленностью, которая была почти издевательством над его собственным сердцем, и всё же в этой позе было одно честное движение: он не уходил с прохода. Не давил. Не хватал. Просто оставался рядом, так близко, чтобы брату было трудно сделать вид, что в доме никого нет.
Снаружи по стеклу ударила снежная крупа, и звук получился такой, будто кто-то мелко стучал ногтями по хрусталю. В передней горела лампа, отбрасывая на стену мягкий свет, но Николай видел не свет. Он видел, как брат снова исчезает у него из-под пальцев, как между ними растёт эта новая, непрошеная стена, и как он, Николай, вынужден теперь не только шутить и жить красиво, но ещё и сторожить, и угадывать, и держать дом в руках. Он стоял ровно, с аристократической расслабленностью, которая была почти издевательством над его собственным сердцем, и всё же в этой позе было одно честное движение: он не уходил с прохода. Не давил. Не хватал. Просто оставался рядом, так близко, чтобы брату было трудно сделать вид, что в доме никого нет.
- Я просто не хочу, чтобы с тобой что-то случилось.

 Он улыбнулся снова, вытащив из себя эту улыбку как последний приличный жест, и протянул перчатку, которую расправил, словно предлагал не вещь, а компромисс: возможность ответить, возможность пошутить, возможность не разбивать их пополам ещё раз.
Он улыбнулся снова, вытащив из себя эту улыбку как последний приличный жест, и протянул перчатку, которую расправил, словно предлагал не вещь, а компромисс: возможность ответить, возможность пошутить, возможность не разбивать их пополам ещё раз.
- И мне тебя не хватает.