


- Не зассал? Серьёзно?

 Это прилетело Роме не по самолюбию - по чему-то глубже, почти по ребру. Он ожидал привычного: смешка, подкола, облегчённого "Ну ты и лох" или хотя бы той жалкой жалости, от которой хочется плеваться. А вместо этого в голосе у Васи прозвучало удивлённое восхищение, и Рома на секунду замер, будто его в темноте тронули за оголённый провод.
Это прилетело Роме не по самолюбию - по чему-то глубже, почти по ребру. Он ожидал привычного: смешка, подкола, облегчённого "Ну ты и лох" или хотя бы той жалкой жалости, от которой хочется плеваться. А вместо этого в голосе у Васи прозвучало удивлённое восхищение, и Рома на секунду замер, будто его в темноте тронули за оголённый провод.

 Он даже не сразу нашёл, куда деть глаза: взгляд дёрнулся в сторону пустыря, туда, где уже стихли пьяные выкрики, потом вернулся к ней и снова ушёл вбок, как будто он боялся задержаться на этом признании слишком долго. Челюсть у него сжалась, в горле встал сухой комок, и он спасся тем, чем спасался всегда - ехидством, но ехидством, в котором вдруг появилась осторожность.
Он даже не сразу нашёл, куда деть глаза: взгляд дёрнулся в сторону пустыря, туда, где уже стихли пьяные выкрики, потом вернулся к ней и снова ушёл вбок, как будто он боялся задержаться на этом признании слишком долго. Челюсть у него сжалась, в горле встал сухой комок, и он спасся тем, чем спасался всегда - ехидством, но ехидством, в котором вдруг появилась осторожность.
- Ага, - выдохнул он хрипло, с кривой ухмылкой. - Не зассал. Сам охуел, если честно. Я бы себе сейчас медаль выдал за "Не сдох от стыда при свидетелях", но у меня, блять, бюджет на медали - ноль.

 Он сказал это резко, матерно, как будто отбрасывал от себя возможность быть нормальным, но по тому, как у него дрогнули пальцы, было видно: слова Васи зацепили его всерьёз.
Он сказал это резко, матерно, как будто отбрасывал от себя возможность быть нормальным, но по тому, как у него дрогнули пальцы, было видно: слова Васи зацепили его всерьёз.

 Рома стоял на краю сооружения, спиной к железу, будто держал опору, и всё равно ощущал себя голым. Он хотел добавить ещё шутку, добить, перевести в балаган, но Вася перестала таращиться на него и судорожно полезла искать сигареты и спички, и он поймал это движение сразу - резкое, суетливое, слишком знакомое. Сигареты в таких руках были не про кайф и не про понт, а про то, чтобы заземлиться, собрать себя обратно, найти хоть какой-то контроль, когда внутри всё скачет, как рваный ток. Рома увидел, как у неё дрожат пальцы, как она шарит по карманам, будто проверяет мир на наличие спасательного круга, и от этого у него в груди что-то неприятно, тихо провалилось.
Рома стоял на краю сооружения, спиной к железу, будто держал опору, и всё равно ощущал себя голым. Он хотел добавить ещё шутку, добить, перевести в балаган, но Вася перестала таращиться на него и судорожно полезла искать сигареты и спички, и он поймал это движение сразу - резкое, суетливое, слишком знакомое. Сигареты в таких руках были не про кайф и не про понт, а про то, чтобы заземлиться, собрать себя обратно, найти хоть какой-то контроль, когда внутри всё скачет, как рваный ток. Рома увидел, как у неё дрожат пальцы, как она шарит по карманам, будто проверяет мир на наличие спасательного круга, и от этого у него в груди что-то неприятно, тихо провалилось.

 Он не сказал: "Успокойся". Он вообще не умел так. Он просто стал ближе. Без шумных жестов, без "Я рядом", а телом, которое само выбрало позицию - чуть сбоку, чуть впереди, чтобы закрыть её от ветра и от пустыря, где мог снова вынырнуть этот голос. Он молчал так, как молчат те, кто знает: любое лишнее слово может распороть человека сильнее, чем крик.
Он не сказал: "Успокойся". Он вообще не умел так. Он просто стал ближе. Без шумных жестов, без "Я рядом", а телом, которое само выбрало позицию - чуть сбоку, чуть впереди, чтобы закрыть её от ветра и от пустыря, где мог снова вынырнуть этот голос. Он молчал так, как молчат те, кто знает: любое лишнее слово может распороть человека сильнее, чем крик.
- Мой батя такой же. Ну, в смысле, был - сейчас сидит за кражу, может поменялся. И я бы зассала. Никогда не вышла.

 Когда Вася вдруг призналась, что батя у неё такой же, а теперь сидит за кражу, Рома сначала даже не моргнул. У него в лице ничего не изменилось показательно, но плечи стали жёстче, и он выдохнул так, будто его ударили под дых не болью, узнаваемостью. В этих обрывках было слишком много знакомого: надежда без веры, злость, которая торчит из слов как гвоздь, и стыд, который прячут под плечевым движением, будто можно стряхнуть с кожи чужие ладони.
Когда Вася вдруг призналась, что батя у неё такой же, а теперь сидит за кражу, Рома сначала даже не моргнул. У него в лице ничего не изменилось показательно, но плечи стали жёстче, и он выдохнул так, будто его ударили под дых не болью, узнаваемостью. В этих обрывках было слишком много знакомого: надежда без веры, злость, которая торчит из слов как гвоздь, и стыд, который прячут под плечевым движением, будто можно стряхнуть с кожи чужие ладони.

 Когда Вася дёрнула плечом, Рома машинально сделал то же самое, почти синхронно, и этот тупой, телесный перевод оказался сильнее любого "я понимаю". Он смотрел на неё в этот момент уже иначе: не как на безбашенную девчонку, с которой весело влезать в дерьмо, а как на человека, который носит то же дерьмо внутри, только по-своему.
Когда Вася дёрнула плечом, Рома машинально сделал то же самое, почти синхронно, и этот тупой, телесный перевод оказался сильнее любого "я понимаю". Он смотрел на неё в этот момент уже иначе: не как на безбашенную девчонку, с которой весело влезать в дерьмо, а как на человека, который носит то же дерьмо внутри, только по-своему.
- Вот поэтому ты и… - начал он, и остановился.

 Он сплюнул в сторону, как будто выплёвывал не слюну, а лишнее, и сказал проще, грубее, но честнее:
Он сплюнул в сторону, как будто выплёвывал не слюну, а лишнее, и сказал проще, грубее, но честнее:
- Вот поэтому ты так и вцепляешься во всё сразу, да? Чтоб не успели вцепиться в тебя.

 Он не пытался звучать мягко. В этом не было утешения. Это было узнавание без соплей, ровно то, что можно выдержать.
Он не пытался звучать мягко. В этом не было утешения. Это было узнавание без соплей, ровно то, что можно выдержать.

 Он опустил голову, на секунду задержав взгляд на своих руках: они были в царапинах, в грязи, в старой ржавчине, и вдруг стало смешно и мерзко от того, что этими руками он строил крепость, будто можно построить себе безопасность из железного мусора.
Он опустил голову, на секунду задержав взгляд на своих руках: они были в царапинах, в грязи, в старой ржавчине, и вдруг стало смешно и мерзко от того, что этими руками он строил крепость, будто можно построить себе безопасность из железного мусора.
- Я раньше тоже, - признался он неожиданно быстро, как будто иначе бы передумал. - Я раньше не выходил. Я прятался. Везде. В гараже, в кустах, вот тут. Потому что он, сука, если видит - начинает. И ему вообще похуй, кто рядом, что ты взрослый, что ты не обязан… - он запнулся и зло выругался под нос, будто хотел себя за это слово ударить. - Я не перестал бояться. Я и щас боюсь. Просто сейчас... больше злюсь, чем боюсь.

 Он сказал это и тут же ощутил, как внутри поднимается стыд: что много сказал, что показал лишнее, что сейчас она может решить: герой, псих, семейная грязь. Рома резко дёрнул подбородком, пряча уязвимость под грубостью.
Он сказал это и тут же ощутил, как внутри поднимается стыд: что много сказал, что показал лишнее, что сейчас она может решить: герой, псих, семейная грязь. Рома резко дёрнул подбородком, пряча уязвимость под грубостью.
- Только не думай, - добавил он с кривой усмешкой, - что я тут из себя Рэмбо строю. Мне всё равно хуёво. Просто я научился делать вид, что мне похуй. Это не одно и то же.

 Пока он говорил, Вася всё ещё шарила пальцами по карманам в поисках спичек, и этот её нервный, потерянный жест снова вонзился в Рому, как крюк. Он понял без слов: сейчас слова - лишние. В кармане его пальцы нашли гладкий корпус зажигалки. Он достал её резко, будто обнажая оружие, и шагнул ближе.
Пока он говорил, Вася всё ещё шарила пальцами по карманам в поисках спичек, и этот её нервный, потерянный жест снова вонзился в Рому, как крюк. Он понял без слов: сейчас слова - лишние. В кармане его пальцы нашли гладкий корпус зажигалки. Он достал её резко, будто обнажая оружие, и шагнул ближе.

 Расстояние между их лицами испарилось, стало опасным, сантиметровым. Воздух вдруг загустел, стал обжигающим и тягучим, как когда они прятались, сливаясь в один комок страха. Он почувствовал тепло её дыхания на своём подбородке. Запах старого табака с её одежды смешался с тёплым, едва уловимым ароматом её кожи - что-то горькое, как полынь, и сладкое, как нагретое солнцем тело.
Расстояние между их лицами испарилось, стало опасным, сантиметровым. Воздух вдруг загустел, стал обжигающим и тягучим, как когда они прятались, сливаясь в один комок страха. Он почувствовал тепло её дыхания на своём подбородке. Запах старого табака с её одежды смешался с тёплым, едва уловимым ароматом её кожи - что-то горькое, как полынь, и сладкое, как нагретое солнцем тело.

 Он поднёс зажигалку, остановив пламя в миллиметре от кончика сигареты. Его собственная рука не дрожала, но всё его существо сжалось в ожидании. Слишком близко. Он осознавал каждую точку своего тела, едва не касающуюся её груди, колени, готовые подкоситься, низ живота, где внезапно и глупо, по-мальчишечьи, возникла тугая, жгучая волна. Она прошла спазмом, заставив сердце биться в горле.
Он поднёс зажигалку, остановив пламя в миллиметре от кончика сигареты. Его собственная рука не дрожала, но всё его существо сжалось в ожидании. Слишком близко. Он осознавал каждую точку своего тела, едва не касающуюся её груди, колени, готовые подкоситься, низ живота, где внезапно и глупо, по-мальчишечьи, возникла тугая, жгучая волна. Она прошла спазмом, заставив сердце биться в горле.

 Он не отступил. Не из храбрости. А потому что отодвинуться сейчас - значило обнажить эту дрожь, этот предательский жар, выдать то, что уже витало в раскалённом пространстве между их кожи. Это была бы трусость, разоблачающая всё.
Он не отступил. Не из храбрости. А потому что отодвинуться сейчас - значило обнажить эту дрожь, этот предательский жар, выдать то, что уже витало в раскалённом пространстве между их кожи. Это была бы трусость, разоблачающая всё.

 Огонёк вспыхнул с тихим шелестящим звуком. Рома инстинктивно замкнул пространство ладонью - щит от ветра и от всего мира. В этой клетке из пальцев и тепла их руки почти коснулись не романтично, а по-рабочему, сухо, и от этой бытовой случайности что-то ёкнуло внизу живота.
Огонёк вспыхнул с тихим шелестящим звуком. Рома инстинктивно замкнул пространство ладонью - щит от ветра и от всего мира. В этой клетке из пальцев и тепла их руки почти коснулись не романтично, а по-рабочему, сухо, и от этой бытовой случайности что-то ёкнуло внизу живота.

 Он держал пламя ровно, затаив дыхание. Весь его мир сузился до этого маленького оранжевого ядра, трепещущего между ними. От его устойчивости, казалось, зависело всё.
Он держал пламя ровно, затаив дыхание. Весь его мир сузился до этого маленького оранжевого ядра, трепещущего между ними. От его устойчивости, казалось, зависело всё.

 Вспыхнувший кончик осветил её губы изнутри - тёплый, алый отблеск мелькнул на влажной поверхности. Рома поймал этот блик, и его взгляд прилип, задержался на долю секунды дольше дозволенного. Резко он оторвал глаза вверх, но было поздно - тело уже отозвалось тупым, настырным толчком где-то в глубине.
Вспыхнувший кончик осветил её губы изнутри - тёплый, алый отблеск мелькнул на влажной поверхности. Рома поймал этот блик, и его взгляд прилип, задержался на долю секунды дольше дозволенного. Резко он оторвал глаза вверх, но было поздно - тело уже отозвалось тупым, настырным толчком где-то в глубине.

 Он щёлкнул крышкой зажигалки, погасив огонь. Но руку, ту, что всё ещё образовывала стенку рядом с её кистью, не убрал. Ладонь продолжала чувствовать излучаемое её кожей тепло, этот невидимый, плотный слой воздуха между ними, который теперь казался важнее любого прикосновения. Отпустить его - значило сдаться, признать, что момент прошёл. А он не хотел, чтобы он проходил.
Он щёлкнул крышкой зажигалки, погасив огонь. Но руку, ту, что всё ещё образовывала стенку рядом с её кистью, не убрал. Ладонь продолжала чувствовать излучаемое её кожей тепло, этот невидимый, плотный слой воздуха между ними, который теперь казался важнее любого прикосновения. Отпустить его - значило сдаться, признать, что момент прошёл. А он не хотел, чтобы он проходил.
- Всё, хуй с ними, уёбами. Сгниют оба.

 Он сказал это, чтобы снова стать собой, чтобы не дать этому моменту превратиться в жалость. Но взгляд у него всё равно остался на ней, внимательный и тёмный, и в нём было простое уважение: она не высмеяла. Она не ударила по больному. Она вытащила из своей жизни кусок дерьма и положила рядом.
Он сказал это, чтобы снова стать собой, чтобы не дать этому моменту превратиться в жалость. Но взгляд у него всё равно остался на ней, внимательный и тёмный, и в нём было простое уважение: она не высмеяла. Она не ударила по больному. Она вытащила из своей жизни кусок дерьма и положила рядом.

 Он помолчал, но молчал не пусто: слушал пустырь, ветер, редкие голоса издалека. Рома сглотнул, будто проглотил что-то острое, и бросил ей коротко, грубо, но ровно то, что мог себе позволить.
Он помолчал, но молчал не пусто: слушал пустырь, ветер, редкие голоса издалека. Рома сглотнул, будто проглотил что-то острое, и бросил ей коротко, грубо, но ровно то, что мог себе позволить.
- Ты... поэтому переехала сюда?
- Вот поэтому ты и… - начал Ромка, но тут же осекся.
Вася оторвала взгляд от пола и стрельнула им в мальчишку. Прищурилась с подозрительностью. "Вот только жалеть меня не надо!" - подумала она и сразу же цыкнула языком, будто уже получила это чувство, будто уже разочаровалась в новом знакомом.
- Вот поэтому ты так и вцепляешься во всё сразу, да? Чтоб не успели вцепиться в тебя.
Фраза сорвалась с его губ неожиданно и Сыса даже вздрогнула. Попал. В самое яблочко попал, и будто в подтверждение, в грудине у девчонки заныло так, что маску на лицо надела не сразу.
- Ты...Э...Ой, ебло, - отмахнулась Васька. - Я так делаю, потому что мне нравится так. Ясно?
Последнее буквально буркнула - нет уж, хватит на сегодня с неё признаний.
- Я раньше тоже, - признался Ромка, когда Сыса снова продолжила шариться по карманам в поисках "добра". - Я раньше не выходил. Я прятался. Везде. В гараже, в кустах, вот тут.
Брови удивлённо вздрогнули и встали, напоминая нервную кошку. Так это не просто место, чтобы девок за сиськи трогать? Это же..."Логово!" - додумалась Сыса и в глазах появилась неприкрытая зависть.
- Потому что он, сука, если видит - начинает. И ему вообще похуй, кто рядом, что ты взрослый, что ты не обязан… - Ромка в очередной раз замолчал, словно запнулся об этом мерзкое слово, которое так часто говорили взрослые. - Я не перестал бояться. Я и щас боюсь. Просто сейчас... больше злюсь, чем боюсь.
Васька не понимала. Она не злилась на отца, она его боялась. Животным страхом, неподконтрольным. Стоило услышать пьяную брань, как тело становилось деревянным, а Сыса из хулиганки превращалась в девочку, что могла только прятаться и размазывать сопли по лицу.
- Только не думай, что я тут из себя Рэмбо строю. Мне всё равно хуёво. Просто я научился делать вид, что мне похуй. Это не одно и то же.
Рома вдруг придвинулся ближе и в руках его блеснула корпусом зажигалка. Расстояние между лицами сократилось и даже вдох сделать теперь казалось непозволительной роскошью.
Между их лицами вспыхнул язык пламени. Ровный, совсем как солдатик. Он кинулся на кончик сигареты и она затрещала, позволяя затянуться, выдохнуть дым через нос. Тело мгновенно расслабилось и Вася облегченно цыкнула, облокачиваясь на стену.
- Всё, хуй с ними, уёбами. Сгниют оба, - закончил Рома так, будто искал не было этого акта единения, признаний и души нараспашку. - Ты... поэтому переехала сюда?
Вася пожала плечами беззаботно - как могла возвращала себя прежнюю.
- Да не-ет, - протянула Сыса. - Меня вышибли к хуям собачьим. Я ж говорила - проебы и поведение. Даже там меня не вывезли, слабаки.
Ей было мало той передышки во время прикуривания. Лопатки оттолкнулись от прохладной деревянной стены и Вася оказалась к Роме ближе. Губы раскрылись, словно перед поцелуем, и в чужой рот потекла сизая струя дыма. Медленно, причудливыми узорами, словно одно дыхание на двоих.
- Мы теперь повязаны, знаешь? - поинтересовалась Васька и вернулась к стене. - Проболтаешься - я тебе хуй отрежу.
Предупредила ласково, будто обещала банку варенья принести. Губы искривились в хищной улыбке и девчонка затянулась.

 Козлов поморщился, и это Алиса поймала. Лицо у него на мгновение стало таким жалким и растерянным, что у Алисы в груди болезненно кольнуло не жалостью, а стыдом за то, что она вообще довела до этого, что она позволила себе сорваться. Ей захотелось отвернуться и исчезнуть в своей комнате, стать снова никем, холодной и неудобной, потому что в состоянии уязвимости её будто выворачивало наружу, как карман.
Козлов поморщился, и это Алиса поймала. Лицо у него на мгновение стало таким жалким и растерянным, что у Алисы в груди болезненно кольнуло не жалостью, а стыдом за то, что она вообще довела до этого, что она позволила себе сорваться. Ей захотелось отвернуться и исчезнуть в своей комнате, стать снова никем, холодной и неудобной, потому что в состоянии уязвимости её будто выворачивало наружу, как карман.
- Ну...ты...

 И именно это блеяние стало для неё невыносимым. Алиса сжала челюсть, будто удерживая внутри ещё один всхлип, и сделала вид, что занята столом: разгладила клеёнку ладонью, переставила стакан на пару сантиметров, как будто порядок вещей мог заменить порядок в голове. Она не успела подобрать ни одного нормального слова, потому что у Кости внутри щёлкнуло что-то громче, чем у него обычно щёлкало.
И именно это блеяние стало для неё невыносимым. Алиса сжала челюсть, будто удерживая внутри ещё один всхлип, и сделала вид, что занята столом: разгладила клеёнку ладонью, переставила стакан на пару сантиметров, как будто порядок вещей мог заменить порядок в голове. Она не успела подобрать ни одного нормального слова, потому что у Кости внутри щёлкнуло что-то громче, чем у него обычно щёлкало.

 Он взорвался неожиданно.
Он взорвался неожиданно.
- А-а-а. Это я теперь виноват, что у тебя в доме мужик?! Заметь, не я себя сюда позвал!

 От этих слов Алисе стало ещё хуже, потому что он попал в самую неприятную точку, даже если не целился. Да, она позвала. Позвала сама. И теперь любой его шаг к двери выглядел так, будто она за минуту успела пожалеть и выгнать. Алиса на секунду зажмурилась, как от яркого света, и тут же открыла глаза: нельзя показывать слабость, нельзя. Она сделала то, что всегда делала, когда изнутри распирало признание: прицепилась к мелочи, чтобы не сказать "Прости".
От этих слов Алисе стало ещё хуже, потому что он попал в самую неприятную точку, даже если не целился. Да, она позвала. Позвала сама. И теперь любой его шаг к двери выглядел так, будто она за минуту успела пожалеть и выгнать. Алиса на секунду зажмурилась, как от яркого света, и тут же открыла глаза: нельзя показывать слабость, нельзя. Она сделала то, что всегда делала, когда изнутри распирало признание: прицепилась к мелочи, чтобы не сказать "Прости".
- Перестань орать, Козлов. У меня окна, между прочим, без двойных рам. Тут любой шёпот на улицу выносит.

 Внутри она ясно слышала другое: "Я правда позвала", "Я правда рада, что ты здесь", "Я перегнула". Но вместо этого она только сильнее вцепилась пальцами в край стола, будто могла удержаться за дерево и не рухнуть в эту честность.
Внутри она ясно слышала другое: "Я правда позвала", "Я правда рада, что ты здесь", "Я перегнула". Но вместо этого она только сильнее вцепилась пальцами в край стола, будто могла удержаться за дерево и не рухнуть в эту честность.

 Алиса не отступила, хотя тело рефлекторно хотело дать место, как будто сейчас её снесёт его злость. Она осталась стоять, только подбородок подняла чуть выше, упрямо, не для позы, а чтобы не расплакаться окончательно. Её раздражало, что он злится. Ещё больше раздражало, что она это заслужила. И от этой смеси стыда и вины её снова начинало трясти.
Алиса не отступила, хотя тело рефлекторно хотело дать место, как будто сейчас её снесёт его злость. Она осталась стоять, только подбородок подняла чуть выше, упрямо, не для позы, а чтобы не расплакаться окончательно. Её раздражало, что он злится. Ещё больше раздражало, что она это заслужила. И от этой смеси стыда и вины её снова начинало трясти.
- Пошёл я? Да с радостью! Ходи теперь, сука, и оглядывайся, чтобы Глеб за тобой не пошёл или эта... Коррекция! А я посмотрю, посмотрю-посмотрю, как ты сама справишься!

 Прозвище "коррекция" отозвалось у Алисы гадким уколом: новенькая, с той самоуверенной телячьей силой, которая давала ей право быть громкой и неудобной для толпы, которая позволяла ей бороться. Алиса ощутила, как внутри у неё поднимается горький смех. Костя думал, что в Новой Мологе есть правила, кроме одного: выбрали жертву - и жрут, пока не надоест. От этой наивности Алисе стало почти физически плохо.
Прозвище "коррекция" отозвалось у Алисы гадким уколом: новенькая, с той самоуверенной телячьей силой, которая давала ей право быть громкой и неудобной для толпы, которая позволяла ей бороться. Алиса ощутила, как внутри у неё поднимается горький смех. Костя думал, что в Новой Мологе есть правила, кроме одного: выбрали жертву - и жрут, пока не надоест. От этой наивности Алисе стало почти физически плохо.

 Когда он рванул к выходу, Алиса сначала осталась каменной. Она не бросилась следом. Она стояла и смотрела ему в спину так, будто это не он уходил, а у неё из дома выносили единственный источник воздуха. Внутри было пусто и жгуче одновременно. Потом, когда дверь хлопнула и дом снова стал домом, а не местом, где кто-то дышит рядом, Алиса ощутила стыд и вину, как грязную воду под ногами. Она сама дала ему повод сорваться. Она сама расковыряла это. Она сама… она сама.
Когда он рванул к выходу, Алиса сначала осталась каменной. Она не бросилась следом. Она стояла и смотрела ему в спину так, будто это не он уходил, а у неё из дома выносили единственный источник воздуха. Внутри было пусто и жгуче одновременно. Потом, когда дверь хлопнула и дом снова стал домом, а не местом, где кто-то дышит рядом, Алиса ощутила стыд и вину, как грязную воду под ногами. Она сама дала ему повод сорваться. Она сама расковыряла это. Она сама… она сама.

 Ей захотелось догнать его хотя бы словом, но слова не шли. Вместо этого она резко села на стул, как будто ноги перестали держать, и закрыла ладонями лицо на секунду. Алиса посмотрела на остужающуюся картошку и вдруг подумала, что всё это так глупо: картошка, наливка, "Дюшес", и рядом с этим - смерть, крест, изнасилование, сплетни, клеймо. Нормальная жизнь в Новой Мологе, да.
Ей захотелось догнать его хотя бы словом, но слова не шли. Вместо этого она резко села на стул, как будто ноги перестали держать, и закрыла ладонями лицо на секунду. Алиса посмотрела на остужающуюся картошку и вдруг подумала, что всё это так глупо: картошка, наливка, "Дюшес", и рядом с этим - смерть, крест, изнасилование, сплетни, клеймо. Нормальная жизнь в Новой Мологе, да.

 Скрипнули доски крыльца, как шаг вернулся обратно. У неё в груди снова поднялось напряжение, будто она уже знала: сейчас будет хуже. Она выпрямилась медленно, как будто готовилась к удару.
Скрипнули доски крыльца, как шаг вернулся обратно. У неё в груди снова поднялось напряжение, будто она уже знала: сейчас будет хуже. Она выпрямилась медленно, как будто готовилась к удару.
- Я не договорил. Знаешь почему ты в сплетнях живёшь? Знаешь? А потому что ты помощь не принимаешь, вот почему! Ты постоянно одна в этом говне варишься! Я к тебе... Они тебя жрут не потому что верят, а потому что... ты одна! Ты не плывешь, ты тонешь! Хочешь... Хочешь научу? Вместе будем это всё...Тебе не привыкать меня хуями крыть, а так хоть с пользой.

 Она хотела ответить колко, отрезать: "Я не маленькая", "Я не просила", "Не учи", но вместо этого только чуть вскинула подбородок и посмотрела на него пристально, будто проверяла, не издевается ли он.
Она хотела ответить колко, отрезать: "Я не маленькая", "Я не просила", "Не учи", но вместо этого только чуть вскинула подбородок и посмотрела на него пристально, будто проверяла, не издевается ли он.
- Ты так говоришь, будто я это выбираю, - сказала Алиса наконец, тихо, с той самой колкостью, которая была её бронёй. - Как будто мне нравится в этом вариться. Это не курорт.

 Внутри же шёл другой текст, глупый и стыдный: "Он пришёл", "Он не ушёл", "Он пытается". Алиса злилась на себя за то, что ей хочется верить.
Внутри же шёл другой текст, глупый и стыдный: "Он пришёл", "Он не ушёл", "Он пытается". Алиса злилась на себя за то, что ей хочется верить.

 Алиса увидела, как он ищет слова, как у него в груди всё бьётся слишком быстро, и от этого у неё внутри снова сдвинулось что-то человеческое, почти мягкое. Ей вспомнились его прежние подколы, шершавые, иногда обидные, сказанные в классе так легко, будто они ничего не значили. И теперь он стоял здесь, в её кухне, неумело пытаясь сказать что-то. Алиса почувствовала неприятное, горячее покалывание под глазами и тут же отвернулась к столу, заняла руки: сдвинула тарелку на сантиметр, поправила стакан.
Алиса увидела, как он ищет слова, как у него в груди всё бьётся слишком быстро, и от этого у неё внутри снова сдвинулось что-то человеческое, почти мягкое. Ей вспомнились его прежние подколы, шершавые, иногда обидные, сказанные в классе так легко, будто они ничего не значили. И теперь он стоял здесь, в её кухне, неумело пытаясь сказать что-то. Алиса почувствовала неприятное, горячее покалывание под глазами и тут же отвернулась к столу, заняла руки: сдвинула тарелку на сантиметр, поправила стакан.

 Последняя фраза ударила Алису в самое нутро. Слово "одна" прозвучало слишком громко в её доме, где мать уехала на вахту, где ночь будет длинной, где тишина обычно давит к горлу. Алиса вздрогнула едва заметно.
Последняя фраза ударила Алису в самое нутро. Слово "одна" прозвучало слишком громко в её доме, где мать уехала на вахту, где ночь будет длинной, где тишина обычно давит к горлу. Алиса вздрогнула едва заметно.

 Она подняла взгляд на Костю, и в этом взгляде было сразу всё: упрямство, страх, стыд, и какая-то отчаянная злость на этот мир. Алиса хотела огрызнуться, сказать: "И что, думаешь, если я перестану быть одной, они отстанут?", хотела рассмеяться ему в лицо этим злым смехом, который вечно её спасал, но вместо этого голос у неё предательски осел.
Она подняла взгляд на Костю, и в этом взгляде было сразу всё: упрямство, страх, стыд, и какая-то отчаянная злость на этот мир. Алиса хотела огрызнуться, сказать: "И что, думаешь, если я перестану быть одной, они отстанут?", хотела рассмеяться ему в лицо этим злым смехом, который вечно её спасал, но вместо этого голос у неё предательски осел.
- Ты думаешь, - выговорила Алиса медленно, и слова выходили тяжело, будто она тащила их из-под пола, - что если я перестану быть одна, то они перестанут жрать?

 Она стояла, не двигаясь, но внутри всё ходило волнами: ей хотелось одновременно оттолкнуть его словами и удержать его здесь, потому что он был единственным человеком за долгое время, который не говорил "сама виновата", а говорил "ты одна". Это было страшно, потому что звучало почти как забота.
Она стояла, не двигаясь, но внутри всё ходило волнами: ей хотелось одновременно оттолкнуть его словами и удержать его здесь, потому что он был единственным человеком за долгое время, который не говорил "сама виновата", а говорил "ты одна". Это было страшно, потому что звучало почти как забота.

 Алиса почувствовала, как ладони вспотели, и спрятала их, скрестив руки на груди, будто ей просто холодно. Ей захотелось усмехнуться и выдать что-нибудь язвительное, чтобы не дать ему увидеть, как сильно её зацепило. Усмешка действительно появилась, но не такая, как обычно: не хищная, а кривоватая, растерянная.
Алиса почувствовала, как ладони вспотели, и спрятала их, скрестив руки на груди, будто ей просто холодно. Ей захотелось усмехнуться и выдать что-нибудь язвительное, чтобы не дать ему увидеть, как сильно её зацепило. Усмешка действительно появилась, но не такая, как обычно: не хищная, а кривоватая, растерянная.
- "Научу", - повторила Алиса тихо, словно пробовала слово на вкус. - В учителя заделался?

 Она перевела взгляд на его руки, на плечи, на то, как он стоит, напряжённый, готовый к удару, хотя сам предлагает помощь. Алиса молчала секунду дольше, чем было удобно, и в этом молчании было видно, как она борется с собой: принять или оттолкнуть. Внутри у неё всё ещё сидела вина за её предыдущий срыв, и эта вина жгла сильнее, чем его мат.
Она перевела взгляд на его руки, на плечи, на то, как он стоит, напряжённый, готовый к удару, хотя сам предлагает помощь. Алиса молчала секунду дольше, чем было удобно, и в этом молчании было видно, как она борется с собой: принять или оттолкнуть. Внутри у неё всё ещё сидела вина за её предыдущий срыв, и эта вина жгла сильнее, чем его мат.
- Хер с тобой. Давай попробуем. Только не беси меня: сожри уже эту проклятую картошку. Я для кого её готовила вообще?

 Она сказала это как будто с издёвкой, но в глазах у неё было другое: тихая просьба, которую она замаскировала под требование. Алиса тут же отвела взгляд, будто ей срочно надо проверить плиту, хотя плита была выключена, и только пальцы, сжатые на рукаве, дрожали едва заметно, выдавая, как страшно ей даже думать о том, чтобы принять чью-то руку, не ожидая, что её тут же ударят по запястью.
Она сказала это как будто с издёвкой, но в глазах у неё было другое: тихая просьба, которую она замаскировала под требование. Алиса тут же отвела взгляд, будто ей срочно надо проверить плиту, хотя плита была выключена, и только пальцы, сжатые на рукаве, дрожали едва заметно, выдавая, как страшно ей даже думать о том, чтобы принять чью-то руку, не ожидая, что её тут же ударят по запястью.
На кухне воцарилось молчание, которое нарушалось лишь рваным дыханием Кости. Сердце стучало в висках, ладони непроизвольно сжимались в кулаки, пока он ждал ответа Алисы. Что скажет? Пошлёт? Или сначала "ужалит", а потом прогонит?
Девчонка заговорила не сразу. Вздернула подбородок, подставляя хорошенькое личико под свет. В тот момент выглядела до ужаса серьёзной, даже сильнее чем во время контрольных работ. Стрельнула в Костю взглядом, чтобы перехватило дух. Смотрела долго, будто чего-то ждала.
Козлов пермялся с ноги на ногу, но едва заметно. От волнения начинало мутить и мальчишка уже успел пожалеть, что вообще это предложил и ввязался.
- Ты так говоришь, будто я это выбираю, - заявила Алиска. - Как будто мне нравится в этом вариться. Это не курорт.
Костя в ответ поморщился. Проворчал что-то нечленораздельное, явно пытаясь не язвить.
- Ты думаешь, что если я перестану быть одна, то они перестанут жрать?
Козлов задумчиво закусил внутреннюю сторону щеки. Помусолил её между зубами, сделал больно, чтобы шикнуть.
- Вряд ли, - признался с неохотой. - Но лучше переть против стадо с кем-то, чем махать мечом одной, не думаешь? Есть кому...жопу закрыть.
Девчонка скрестила руки на груди. Фыркнула и Костя в ответ надулся. Попытался повторить за ней, но получилось что-то нелепое и он просто сунул ладони в карманы брюк, которые и так уже висели.
- "Научу", - передразнила Алиса, но вышло удивительно тихо, совсем не обидно. - В учителя заделался?
- И че?
Костя вздернул подбородок. Встретился с её взглядом и тут же стушевался. "Ой бля, меня бы кто научил!" - запоздало подумал он, вспоминая, что вечно выходил из драк с перекошенной мордой, но зато не зассал.
Часы пробили и кукушка вылетела из дверцы механизма, напугав Козлова не хуже Глеба.
- Хер с тобой, - отозвалась Алиса, будто только этого и ждала - не предлржения, а этого нелепого подскакивания. - Давай попробуем. Только не беси меня: сожри уже эту проклятую картошку. Я для кого её готовила вообще?
- Ну и съем!
Костя шлепнулся на стул с таким видом, будто намекал - хрен ты меня теперь выгонишь, поняла? Вцепился в вилку и та противно скрипнула зубцами по тарелке, когда мальчишка с деловитым видом накалывал картошку.
- Надо придумать план, - заявил Козлов, когда молчать стало невыносимо. - Что будем делать, когда начнём. Ты вообще знаешь кто эти сплетни разносит?
Спросил и тут же поспешно добавил, будто боялся услышать это имя именно от Алисы:
- Ну, кроме Глеба, разумеется. С ним-то мы...
"Хотя...Почему нет? Если попросить Ромку, а ещё Шурупа, то нас уже будет четверо. Вполне себе нормальная толпа на одно здоровое тело" - подумал Костя, но вслух не предложил - прекрасно помнил отношения друга с Алисой.

 Руслана в ответ лишь коротко кивнула и не стала тратить на слова ни секунды лишней. Она двигалась по кругу методично, как по разметке, не торопясь и не медля, и каждая её остановка была похожа на маленький приговор: перчатки скользили по рукавам, пальцы осторожно выворачивали кисти, проверяли ладони, ногтевые ложа, сгибы, где чаще всего прячется то, что потом превращают в доказательство.
Руслана в ответ лишь коротко кивнула и не стала тратить на слова ни секунды лишней. Она двигалась по кругу методично, как по разметке, не торопясь и не медля, и каждая её остановка была похожа на маленький приговор: перчатки скользили по рукавам, пальцы осторожно выворачивали кисти, проверяли ладони, ногтевые ложа, сгибы, где чаще всего прячется то, что потом превращают в доказательство.

 Она залезала в карманы, вытаскивая оттуда мелкий бытовой мусор, который всегда внезапно становится важным: смятые бумажки, ключи, спички, мелочь. Но ничего не находилось. Никаких чужих отметин, никаких следов удержания, никаких вложенных предметов, никакой новой выдумки, которая объяснила бы этот круг и эту ровную тишину. И только у одного, когда Руслана перевернула руку и сдвинула манжету, на запястье обнаружилась татуировка: тот же самый знак, что темнел на стене, те же линии, тот же холодный символ. Татуировка была сделана давно, кожа вокруг неё выглядела привычной, без воспаления, без свежих следов. Артём задержал взгляд на этом запястье дольше, чем хотел, и поймал себя на простой злости: значило ли это хоть что-нибудь, или их снова водят по кругу, подсовывая красивую чёрную метку вместо нормальной логики.
Она залезала в карманы, вытаскивая оттуда мелкий бытовой мусор, который всегда внезапно становится важным: смятые бумажки, ключи, спички, мелочь. Но ничего не находилось. Никаких чужих отметин, никаких следов удержания, никаких вложенных предметов, никакой новой выдумки, которая объяснила бы этот круг и эту ровную тишину. И только у одного, когда Руслана перевернула руку и сдвинула манжету, на запястье обнаружилась татуировка: тот же самый знак, что темнел на стене, те же линии, тот же холодный символ. Татуировка была сделана давно, кожа вокруг неё выглядела привычной, без воспаления, без свежих следов. Артём задержал взгляд на этом запястье дольше, чем хотел, и поймал себя на простой злости: значило ли это хоть что-нибудь, или их снова водят по кругу, подсовывая красивую чёрную метку вместо нормальной логики.

 Руслана раздражённо вздохнула, не поднимая головы. Голос у неё прозвучал сухо, деловито, без попыток смягчить.
Руслана раздражённо вздохнула, не поднимая головы. Голос у неё прозвучал сухо, деловито, без попыток смягчить.
- Ничего другого я вам сказать сейчас не могу. Для меня на лицо отравление, а уж чем именно - покажет вскрытие.

 Артёма неприятно кольнуло это раздражение, не потому что он сомневался в её выводе, а потому что интонация зацепила что-то личное, чужое делу. Он вдруг вспомнил утренний телефонный звонок, то, как он ляпнул лишнее, не подумав, и мысль, как водится, пошла в плохую сторону: а не слышала ли она, не поняла ли, не решила ли, что он позволил себе то, чего позволять не положено. Он удержал лицо ровным, кивнул через силу, будто кивал не ей, а необходимости, и сказал осторожно, стараясь, чтобы голос не выдал внутреннего дёрганья.
Артёма неприятно кольнуло это раздражение, не потому что он сомневался в её выводе, а потому что интонация зацепила что-то личное, чужое делу. Он вдруг вспомнил утренний телефонный звонок, то, как он ляпнул лишнее, не подумав, и мысль, как водится, пошла в плохую сторону: а не слышала ли она, не поняла ли, не решила ли, что он позволил себе то, чего позволять не положено. Он удержал лицо ровным, кивнул через силу, будто кивал не ей, а необходимости, и сказал осторожно, стараясь, чтобы голос не выдал внутреннего дёрганья.
- Хорошо. Что-то ещё можете сказать сейчас, или дальше уже только после вскрытия?
Карманы оказались пустыми - ничего, кроме мусора, что могло сойти за улики.
Кожа тоже не смогла сохранить след убийцы. Ни порезов, ни отпечатков, под ногтями даже грязи не нашлось. Они будто имели дело с бестелесным духом и Руслана бы так и пошутила, если бы не найденная тогда капля крови - вторая, отрицательная.
Геремеева задрала рукав одной из жертв и глаза её с интересом сверкнули. Брови сошлись ближе к переносице, когда взгляд стал блуждать от запястья до стены.
На руке жертвы был набит такой же символ, с которого началась череда этих страшных и загадочных убийств.
- Интересно, - выдохнула Руслана и сделала снимок быстрым, выверенным движением.
Она провела над телами ещё какое-то время и так и не смогла найти ничего полезного.
- Что-то ещё можете сказать сейчас, или дальше уже только после вскрытия? - поинтересовался Артём.
Геремеева от неожиданности вздрогнула - уже успела забыть, что он продолжил стоять над душой, наблюдая за каждым шагом. Женщина выпрямилась, поднялась с пола. Щелкнули перчатки, когда она начала стягивать их с ладоней.
- Увы, - она развела руками. - Только вскрытие. Мне понадобится время. Я вам сообщу.
Последнее выдохнула с явным намёком, когда взгляд заглянул за спину товарища майора, где стояли другие милиционеры.

 Кожа Ксюши мгновенно покрылась мурашками, и Яр почувствовал это кожей. Он ощутил, как у неё сбилось дыхание, как оно стало чуть выше и тише, и от этого у него самого внутри что-то коротко дрогнуло, будто его поймали на месте преступления. Яр на секунду застыл, стараясь не шевельнуться лишний раз, и вместе с этим поймал собственный импульс сделать что-то привычное, подростковое, глупое. Он подавил этот порыв с усилием, почти физическим: челюсть сжалась, язык прилип к нёбу, дыхание стало осторожнее, чтобы не выдать себя.
Кожа Ксюши мгновенно покрылась мурашками, и Яр почувствовал это кожей. Он ощутил, как у неё сбилось дыхание, как оно стало чуть выше и тише, и от этого у него самого внутри что-то коротко дрогнуло, будто его поймали на месте преступления. Яр на секунду застыл, стараясь не шевельнуться лишний раз, и вместе с этим поймал собственный импульс сделать что-то привычное, подростковое, глупое. Он подавил этот порыв с усилием, почти физическим: челюсть сжалась, язык прилип к нёбу, дыхание стало осторожнее, чтобы не выдать себя.

 Её глаза распахнулись широко, и в этом взгляде было всё сразу: испуг, узнавание, вопрос, который она не произнесла. Яр почувствовал, как его собственные нервы натянулись, как струны. Он понял, что стоит слишком близко, что между ними нет воздуха. Он не отводил взгляда, хотя инстинкт подсказывал спрятаться в шутку.
Её глаза распахнулись широко, и в этом взгляде было всё сразу: испуг, узнавание, вопрос, который она не произнесла. Яр почувствовал, как его собственные нервы натянулись, как струны. Он понял, что стоит слишком близко, что между ними нет воздуха. Он не отводил взгляда, хотя инстинкт подсказывал спрятаться в шутку.

 Шаги растворились где-то в конце коридора, как будто здание проглотило их и не подавилось, и тишина, которая осталась, оказалась не облегчением, а новой формой опасности. Яр стоял, не шевелясь, слушая не звуки, а их отсутствие, и в этом отсутствии ему мерещилось всё сразу: возвращающийся шаг, скрип пола, чужое "Кто тут?", щелчок ручки. То, что дверь снова не заперли, означала простую, тупую, бесчеловечную вероятность: директор мог вернуться в любую секунду, и никакая романтика прошлого не спасёт от того, что они будут выглядеть как двое взрослых идиотов, пойманных в школьном шкафу.
Шаги растворились где-то в конце коридора, как будто здание проглотило их и не подавилось, и тишина, которая осталась, оказалась не облегчением, а новой формой опасности. Яр стоял, не шевелясь, слушая не звуки, а их отсутствие, и в этом отсутствии ему мерещилось всё сразу: возвращающийся шаг, скрип пола, чужое "Кто тут?", щелчок ручки. То, что дверь снова не заперли, означала простую, тупую, бесчеловечную вероятность: директор мог вернуться в любую секунду, и никакая романтика прошлого не спасёт от того, что они будут выглядеть как двое взрослых идиотов, пойманных в школьном шкафу.

 Яр выдохнул неглубоко, собирая себя в короткий, точный импульс. Он поймал взгляд Ксюши в темноте. Он двигался аккуратно, но быстро, и в этой скорости было то самое знакомое, школьное: как будто им снова по семнадцать, и мир можно обмануть, если сделать всё правильно.
Яр выдохнул неглубоко, собирая себя в короткий, точный импульс. Он поймал взгляд Ксюши в темноте. Он двигался аккуратно, но быстро, и в этой скорости было то самое знакомое, школьное: как будто им снова по семнадцать, и мир можно обмануть, если сделать всё правильно.

 Он распахнул дверцу ровно настолько, чтобы в щель пролился коридорный свет, и тут же замер на полсекунды, оценивая пустоту. Пусто. Но пустота была обманчива. Яр, не отрывая взгляда от коридора, протянул руку назад, нашёл Ксюшу в темноте по запястью, по теплу кожи, по мельчайшему дрожанию, и сжал не крепко, а уверенно, так, чтобы она почувствовала: сейчас главное не думать, сейчас надо двигаться. В этот момент его внутренний конфликт, вся эта зыбкая неловкость близости и взгляда, ушёл куда-то на задний план, как выключенный свет. Осталась только ясная, сухая необходимость вывести её отсюда.
Он распахнул дверцу ровно настолько, чтобы в щель пролился коридорный свет, и тут же замер на полсекунды, оценивая пустоту. Пусто. Но пустота была обманчива. Яр, не отрывая взгляда от коридора, протянул руку назад, нашёл Ксюшу в темноте по запястью, по теплу кожи, по мельчайшему дрожанию, и сжал не крепко, а уверенно, так, чтобы она почувствовала: сейчас главное не думать, сейчас надо двигаться. В этот момент его внутренний конфликт, вся эта зыбкая неловкость близости и взгляда, ушёл куда-то на задний план, как выключенный свет. Осталась только ясная, сухая необходимость вывести её отсюда.
- Сейчас, - прошептал он, и это было сигналом, как в старых играх. - Быстро. За мной.

 Он почти вытащил её из шкафчика одним движением, но не дёрнул, не бросил, а вывернул их тела так, чтобы она вышла первой, а он прикрыл собой и дверь, и коридор. Он захлопнул шкафчик без щелчка, ладонью притушив звук, и тут же потянул её в сторону, где тень лежала плотнее, где можно было проскочить, не выдав себя светом из окон. Он двигался резко, но контроль держал до последней мелочи: как ставить ногу, чтобы не скрипнул пол, как не задеть плечом стену, как не заставить её смех или дыхание вырваться громче.
Он почти вытащил её из шкафчика одним движением, но не дёрнул, не бросил, а вывернул их тела так, чтобы она вышла первой, а он прикрыл собой и дверь, и коридор. Он захлопнул шкафчик без щелчка, ладонью притушив звук, и тут же потянул её в сторону, где тень лежала плотнее, где можно было проскочить, не выдав себя светом из окон. Он двигался резко, но контроль держал до последней мелочи: как ставить ногу, чтобы не скрипнул пол, как не задеть плечом стену, как не заставить её смех или дыхание вырваться громче.

 Её ладонь в его руке была горячей и слишком живой, и это осознание ударило в него в самый неподходящий момент, но он не отпустил. В этом коротком рывке было что-то почти неприлично интимное: они бежали от взрослого мира, держась за руки, как подростки, которые украли пару минут жизни и теперь спасают её, пока их не настигли. Яр толкнул ближайшую дверь на себя, пропуская Ксюшу в коридор.
Её ладонь в его руке была горячей и слишком живой, и это осознание ударило в него в самый неподходящий момент, но он не отпустил. В этом коротком рывке было что-то почти неприлично интимное: они бежали от взрослого мира, держась за руки, как подростки, которые украли пару минут жизни и теперь спасают её, пока их не настигли. Яр толкнул ближайшую дверь на себя, пропуская Ксюшу в коридор.

 Там, чуть поодаль от кабинета, он наконец остановился. Дыхание у него было ровнее, чем должно, но грудь всё равно поднималась чаще, чем он позволил бы себе при свидетелях. Он не выпускал её запястье сразу. Потом пальцы разжались, медленно, будто неохотно, и Яр посмотрел на неё в этой новой тишине, уже другой: не "Нас сейчас поймают", а "Мы только что сделали глупость, и это было слишком весело".
Там, чуть поодаль от кабинета, он наконец остановился. Дыхание у него было ровнее, чем должно, но грудь всё равно поднималась чаще, чем он позволил бы себе при свидетелях. Он не выпускал её запястье сразу. Потом пальцы разжались, медленно, будто неохотно, и Яр посмотрел на неё в этой новой тишине, уже другой: не "Нас сейчас поймают", а "Мы только что сделали глупость, и это было слишком весело".
- Ты как? - спросил он тихо, и в голосе проскользнуло что-то невидимо заботливое, что он тут же попытался спрятать. Уголок его рта дёрнулся, почти усмешкой, но взгляд оставался серьёзным.

 Он хотел звучать легко, но внутри у него всё ещё дрожала тонкая нитка напряжения. Подошёл к окну, опёрся ладонью о подоконник, глядя во двор. Вот он и встретил человека, который был его счастьем, а потом исчез. Он долго привыкал к тому, что её место в его жизни оставалось пустым, а теперь она была рядом... и к этому нужно было привыкнуть тоже. Отчасти стало легче, отчасти сложнее и больнее, но это его чуть раздражало. Он реагировал, наверно, сильнее, чем хотел бы.
Он хотел звучать легко, но внутри у него всё ещё дрожала тонкая нитка напряжения. Подошёл к окну, опёрся ладонью о подоконник, глядя во двор. Вот он и встретил человека, который был его счастьем, а потом исчез. Он долго привыкал к тому, что её место в его жизни оставалось пустым, а теперь она была рядом... и к этому нужно было привыкнуть тоже. Отчасти стало легче, отчасти сложнее и больнее, но это его чуть раздражало. Он реагировал, наверно, сильнее, чем хотел бы.
- Ты куришь? - спросил он буднично.

 Он повернул голову, взглядом зацепил её лицо.
Он повернул голову, взглядом зацепил её лицо.
- Если да, давай выйдем на минуту. Если нет, всё равно выйдем. Мне нужен воздух, пока я не начал разговаривать, как на родительском собрании. Пожалуйста. Потом вернёмся, на минуту выйдем.

 Он двинулся первым. Ещё не шёл в сторону выхода, просто отошёл от окна ближе к Ксюше.
Он двинулся первым. Ещё не шёл в сторону выхода, просто отошёл от окна ближе к Ксюше.
- Забавно, - сказал он после короткой паузы, глядя во двор, где ничего не менялось и от этого казалось ещё более чужим. - Мы прятались в шкафу, как два идиота. И знаешь что? Мне даже… понравилось.

 Яр повернулся к ней чуть больше, позволяя взгляду задержаться на секунду дольше, чем допустимо для просто болтовни, и в этой задержке было тепло без сахара: радость видеть её живой, реальной, не в голове и не в воспоминании. Внутри у него поднималось многое сразу, и одно из этого было самым неприятным: тихая, упрямая щель, которая всё ещё болела, но он не трогал её словами, только чувствовал, как она шевелится, когда Ксюша стоит рядом, и как хочется не испортить момент, не обрушить на неё вопрос, который он копил годами.
Яр повернулся к ней чуть больше, позволяя взгляду задержаться на секунду дольше, чем допустимо для просто болтовни, и в этой задержке было тепло без сахара: радость видеть её живой, реальной, не в голове и не в воспоминании. Внутри у него поднималось многое сразу, и одно из этого было самым неприятным: тихая, упрямая щель, которая всё ещё болела, но он не трогал её словами, только чувствовал, как она шевелится, когда Ксюша стоит рядом, и как хочется не испортить момент, не обрушить на неё вопрос, который он копил годами.
- Как ты смотришь, чтобы потом пройтись по коридорам, - предложил он чуть погодя, уже ровнее, по-деловому, но с тем самым скрытым азартом. - Просто посмотреть, что изменилось. Повспоминать.

 Он усмехнулся одним уголком губ, словно заранее признавал нелепость собственной идеи.
Он усмехнулся одним уголком губ, словно заранее признавал нелепость собственной идеи.
- И ты мне по дороге расскажешь про себя. Но нормально. Не "всё хорошо, работа-дом-кот". А я тебе про себя. Всё же... десять лет - срок немаленький.

 Яр качнул головой в сторону коридора, где свет был тише, и пошёл, оставляя ей выбор естественно встроенным: хочешь идти рядом, иди, хочешь отстать, он заметит, но не потащит. По пути он ловил глазами знакомые детали, и школа отзывалась на это как организм: где-то стены были перекрашены, но поворот оставался тем же; где-то висел новый стенд, но запах всё равно был старый. И с каждым таким узнаваемым кусочком у него внутри поднимались вспышки не печали, а радости, настоящей, даже смешной: как они смеялись после репетиций, как у неё пахли волосы чужим лаком, как мир становился проще, как будто у Ксюши была кнопка "отключить тяжесть".
Яр качнул головой в сторону коридора, где свет был тише, и пошёл, оставляя ей выбор естественно встроенным: хочешь идти рядом, иди, хочешь отстать, он заметит, но не потащит. По пути он ловил глазами знакомые детали, и школа отзывалась на это как организм: где-то стены были перекрашены, но поворот оставался тем же; где-то висел новый стенд, но запах всё равно был старый. И с каждым таким узнаваемым кусочком у него внутри поднимались вспышки не печали, а радости, настоящей, даже смешной: как они смеялись после репетиций, как у неё пахли волосы чужим лаком, как мир становился проще, как будто у Ксюши была кнопка "отключить тяжесть".
- Ты помнишь, где мы чаще всего сидели в коридорах, когда ждали урок? - спросил он, будто между делом, но на самом деле нащупывая нитку, которая вела к ним прежним.



 Он посмотрел на неё боковым взглядом, тёплым, внимательным, и добавил чуть тише, без нажима:
Он посмотрел на неё боковым взглядом, тёплым, внимательным, и добавил чуть тише, без нажима:
- Ты сейчас смеёшься так же, как тогда. Я не ожидал, что это вообще возможно.

 Он не говорил о главном. Не называл вслух то, что кололо. Но оно было рядом, под кожей, и от этого его спокойствие выглядело не пустым, а собранным: взрослый мужчина держал себя в руках, чтобы не спугнуть редкий момент, когда прошлое не бьёт по голове, а вдруг даёт короткую передышку. И чем больше он видел её живую реакцию на эти коридоры, тем отчётливее понимал: разговор "почему" никуда не делся, он просто ждал момента. И Яр, сам того не признавая, уже готовил для него почву, осторожно, почти бережно, потому что сейчас ему было важнее другое: не получить ответ любой ценой, а снова почувствовать рядом с ней то, что когда-то называлось счастьем, не стыдясь этого слова.
Он не говорил о главном. Не называл вслух то, что кололо. Но оно было рядом, под кожей, и от этого его спокойствие выглядело не пустым, а собранным: взрослый мужчина держал себя в руках, чтобы не спугнуть редкий момент, когда прошлое не бьёт по голове, а вдруг даёт короткую передышку. И чем больше он видел её живую реакцию на эти коридоры, тем отчётливее понимал: разговор "почему" никуда не делся, он просто ждал момента. И Яр, сам того не признавая, уже готовил для него почву, осторожно, почти бережно, потому что сейчас ему было важнее другое: не получить ответ любой ценой, а снова почувствовать рядом с ней то, что когда-то называлось счастьем, не стыдясь этого слова.
Шаги растворились в звуках коридоров и Ксюша поняла, что смотрела слишком долго. В тот момент к ней вернулась способность мыслить, действовать и взгляд устремился в сторону, сквозь силуэт Ярика.
Они ещё какое-то время стояли в шкафу. Ноги уже начинали гудеть от неудобного положения, от страха, но переставить их было нельзя - слишком большой риск выдать, всё испортить.
Ярик первым шагнул к дверце. Открыл её на пару сантиметров, чтобы свет из коридора слегка ударил в лицо, позволяя одновременно поморщиться и привыкнуть к себе. Тишина стояла плотная и сердце в ней стучало быстрее, чаще. А вдруг обман? Что будет если схватят?
- Сейчас, - выдохнул Ярик и это сработало как отрезвляющая оплеуха. - Быстро. За мной.
Мужчина вытащил Лазареву из шкафа и сам выскочил следом. Так же осторожно прикрыл дверь до едва уловимого щелчка и уже в следующее мгновение сжал чуть влажную ладонь Ксюши, чтобы утянуть девушку с собой в коридор, подальше от кабинета директора, шкафа и этой неловкости, что успела вспыхнуть вместе с желанием.
Они летели по коридорам и Ксюша снова почувствовала себя шестнадцатилетней школьницей, которой предложили прогулять урок физкультуры в кино. Улыбка появилась на лице вместе с мыслью: "Хорошо, что сейчас без каблуков - шуму бы наделали!".
Ярик остановился когда злосяастная дверь осталась далеко позади. Встал возле стены и грудь его вздымалась гораздо реже, чем у Ксюши.
- Ты как? - поинтересовался мужчина.
Лазарева кивнула и вдруг прыснула. В следующее мгновение её смех прокатился по коридорам школы совсем как раньше - искренне.
Когда снова стало тихо, Ярик буднично поинтересовался:
- Ты куришь?
Сердце кольнуло. Вроде ничего такого во фразе не было, а в мыслях засело: "Неужели забыл?"
- Если да, давай выйдем на минуту. Если нет, всё равно выйдем. Мне нужен воздух, пока я не начал разговаривать, как на родительском собрании. Пожалуйста. Потом вернёмся, на минуту выйдем.
Родительское собрание. В голове будто в колокол ударили. Женат, конечно, женат. Уже и дети появились. Интересно, сколько им?
Ксюша тряхнула волосами, пытаясь отогнать непрошенное.
- Не курю.
Прозвучало тихо, будто девушка говорила: "Смотри, у меня и правда ничего не поменялось за эти десять лет".
Она пошла за ним снова. Медленно, позволяя дистанции сохраняться, делать из них старых знакомых, но не больше.
- Забавно, - произнес Ярик с тихой усмешкой. - Мы прятались в шкафу, как два идиота. И знаешь что? Мне даже… понравилось.
Ксюша улыбнулась и в этот момент мужчина посмотрела на неё слишком внимательно. Щеки вспыхнули, а сердце подпрыгнуло в груди. "Перестань так делать" - мысленно приказала девушка и Ярик послушался, будто действительно прочитал.
- Как ты смотришь, чтобы потом пройтись по коридорам? Просто посмотреть, что изменилось. Повспоминать.
Лазарева пожала плечами и этот жест был небольшим согласием, которое должно было спрятаться под маской безразличия.
- Ну да, мы же всё равно собирались вернуться.
Ярик усмехнулся и продолжил, как ни в чем не бывало:
- И ты мне по дороге расскажешь про себя. Но нормально. Не "всё хорошо, работа-дом-кот". А я тебе про себя. Всё же... десять лет - срок немаленький.
Ксюша хотела сказать, что ей действительно нечего ему рассказать, но это было ложью. Очередная попытка вырыть между ними пропасть, не подпустить, чтобы не обжечься. "Да брось, он же женат. Ничего не будет" - напомнил внутренний голос, от которого тело чуть расслабилось, но тут же защемило в груди.
- Ты помнишь, где мы чаще всего сидели в коридорах, когда ждали урок?
Лазарева кивнула.
- На втором этаже. Там ещё диваны старенькие были, помнишь?
Она их очень хорошо запомнила, особенно после того случая, когда вляпалась в жвачку новым платьем.
- Ты сейчас смеёшься так же, как тогда. Я не ожидал, что это вообще возможно.
Их взгляды снова встретились и Ксюша не смогла сдержать улыбку, морща свой хорошенький нос.
- Что-то же должно оставаться прежним в нас, а не только школа.


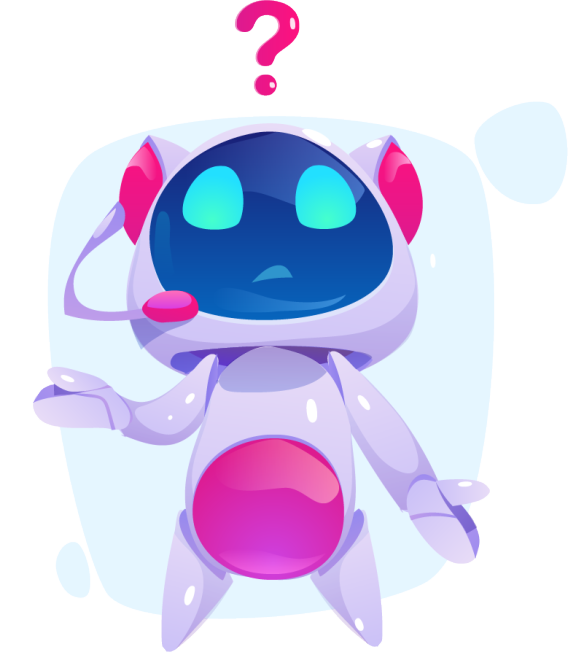
Не проблема! Введите адрес почты, чтобы получить ключ восстановления пароля.
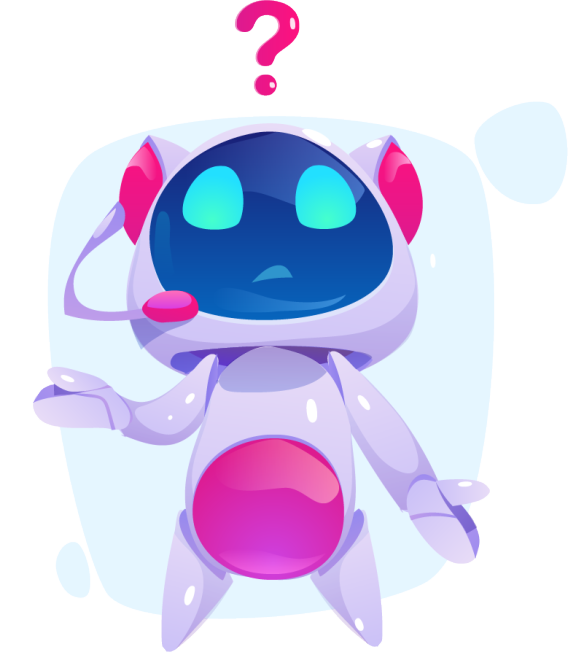
Код активации выслан на указанный вами электронный адрес, проверьте вашу почту.
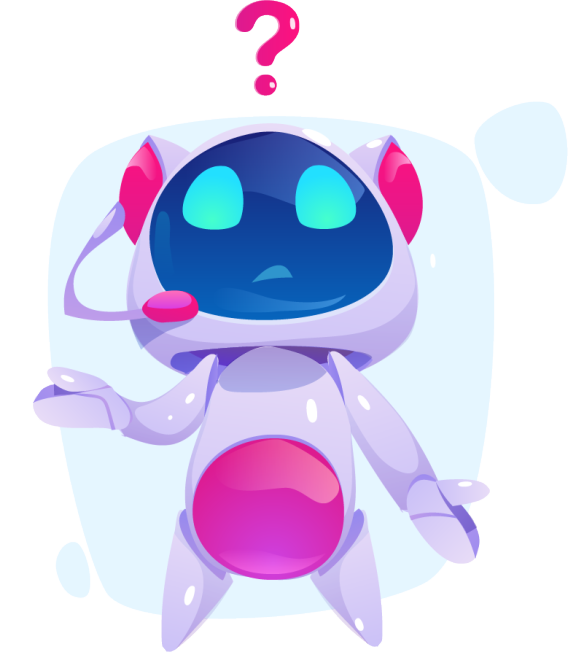
Код активации выслан на указанный вами электронный адрес, проверьте вашу почту.

-
рори
11 января 2026 в 13:21:31


 Татьяна прищурилась, глядя на него пристально и оценивающе. Строгость, которую она пыталась изобразить, выходила у неё не столько суровой, сколько кокетливо-игривой, будто маска всё время норовила соскользнуть. Тонкие, прохладные пальцы коснулись запястья Феликса, и кожа его мгновенно откликнулась.
Татьяна прищурилась, глядя на него пристально и оценивающе. Строгость, которую она пыталась изобразить, выходила у неё не столько суровой, сколько кокетливо-игривой, будто маска всё время норовила соскользнуть. Тонкие, прохладные пальцы коснулись запястья Феликса, и кожа его мгновенно откликнулась.

 И поняла, что ляпнула лишнее. Это слишком веяло надеждой, что он и правда не разлюбит, не бросит. А разве он мог? "Хотя если кто-то и может - то Феликс".
И поняла, что ляпнула лишнее. Это слишком веяло надеждой, что он и правда не разлюбит, не бросит. А разве он мог? "Хотя если кто-то и может - то Феликс".

 Феликс изящно прикрыл рот ладонью, позволив себе тонкий, почти невесомый смешок. Татьяна теперь наблюдала вовсе не за жалкими потугами Дашкова, а за тем, как смеялся Феликс.
Феликс изящно прикрыл рот ладонью, позволив себе тонкий, почти невесомый смешок. Татьяна теперь наблюдала вовсе не за жалкими потугами Дашкова, а за тем, как смеялся Феликс.

 Дмитрий поднял на него взгляд - ехидный, сдержанно-насмешливый, и с явным усилием подавил смешок.
Дмитрий поднял на него взгляд - ехидный, сдержанно-насмешливый, и с явным усилием подавил смешок.

 Татьяна закатила глаза и фыркнула, с трудом удержавшись от вполне конкретного и недвусмысленного желания пнуть Дашкова куда-нибудь в область коленной чашечки.
Татьяна закатила глаза и фыркнула, с трудом удержавшись от вполне конкретного и недвусмысленного желания пнуть Дашкова куда-нибудь в область коленной чашечки.

 Феликс сделал нарочито театральный вдох - усталый, исполненный превосходства и ленивого высокомерия:
Феликс сделал нарочито театральный вдох - усталый, исполненный превосходства и ленивого высокомерия:

 И, уже тише, почти себе под нос, добавил:
И, уже тише, почти себе под нос, добавил:



 В этих словах отчётливо проступал его подлинный характер. Татьяна выгнула бровь, с любопытством наблюдая за этим зрелищем. Дмитрий не ответил. Более того, он вовсе не обиделся, напротив, в нём читалось странное, почти довольное спокойствие, будто его искренне порадовало, что Феликс не стал притворяться и изображать кого-то иного.
В этих словах отчётливо проступал его подлинный характер. Татьяна выгнула бровь, с любопытством наблюдая за этим зрелищем. Дмитрий не ответил. Более того, он вовсе не обиделся, напротив, в нём читалось странное, почти довольное спокойствие, будто его искренне порадовало, что Феликс не стал притворяться и изображать кого-то иного.

 Татьяна, наблюдая за ними, устроилась на стуле, взяла яблоко и, с ленивым наслаждением откусывая от него, принялась издеваться уже над обоими:
Татьяна, наблюдая за ними, устроилась на стуле, взяла яблоко и, с ленивым наслаждением откусывая от него, принялась издеваться уже над обоими:

 Феликс, словно желая доказать свою полезность, взял на себя заботу зажечь плиту. Он прекрасно помнил, как Дмитрий относился к открытому огню, и, судя по короткому взгляду, брошенному на него Дмитрием, тот это заметил. В его глазах мелькнула тихая, неловкая благодарность - почти нежная, если бы он позволил себе признать это чувство.
Феликс, словно желая доказать свою полезность, взял на себя заботу зажечь плиту. Он прекрасно помнил, как Дмитрий относился к открытому огню, и, судя по короткому взгляду, брошенному на него Дмитрием, тот это заметил. В его глазах мелькнула тихая, неловкая благодарность - почти нежная, если бы он позволил себе признать это чувство.

 Они вдвоём принялись за гоголь-моголь. Татьяна наблюдала за их стараниями с откровенным весельем, не упуская случая отпустить очередную колкость, однако, к удивлению всех присутствующих, вдвоём у них дело шло куда лучше, чем можно было ожидать.
Они вдвоём принялись за гоголь-моголь. Татьяна наблюдала за их стараниями с откровенным весельем, не упуская случая отпустить очередную колкость, однако, к удивлению всех присутствующих, вдвоём у них дело шло куда лучше, чем можно было ожидать.

 Когда всё было разлито по бокалам, приправлено спиртным и доведено до относительного совершенства, они направились к ёлке. Татьяна вдруг поцеловала Феликса, крепко вцепилась в его руку и почти потащила назад.
Когда всё было разлито по бокалам, приправлено спиртным и доведено до относительного совершенства, они направились к ёлке. Татьяна вдруг поцеловала Феликса, крепко вцепилась в его руку и почти потащила назад.

 Когда гоголь-моголь был разлит по бокалам и в него, по всем правилам зимнего утешения, добавили спиртного, они перешли к ёлке. В комнате пахло хвоей, тёплым молоком и чем-то ещё, едва уловимым. Татьяна, до сих пор державшаяся так, словно весь этот праздник был порученным ей делом, вдруг наклонилась и поцеловала Феликса быстро. Потом вцепилась в его руку и потянула к ёлке с тем нетерпением, в котором у неё всегда было больше власти, чем детской радости.
Когда гоголь-моголь был разлит по бокалам и в него, по всем правилам зимнего утешения, добавили спиртного, они перешли к ёлке. В комнате пахло хвоей, тёплым молоком и чем-то ещё, едва уловимым. Татьяна, до сих пор державшаяся так, словно весь этот праздник был порученным ей делом, вдруг наклонилась и поцеловала Феликса быстро. Потом вцепилась в его руку и потянула к ёлке с тем нетерпением, в котором у неё всегда было больше власти, чем детской радости.

 Она не стала рвать коробки и шуршать бумагой на глазах у всех, как делала всегда. Вместо этого опустилась рядом со своим саквояжем, отодвинула защёлку, достала аккуратный свёрток и протянула его Феликс. Пальцы её на секунду задержались на краешке бумаги. Ноготь слегка зацепил тесьму, и это маленькое неловкое движение выдало больше, чем любые слова. С тех пор как Феликс стал часто ездить, возвращаться поздно, пахнуть дорогой и холодом, она слишком волновалась о его благополучии.
Она не стала рвать коробки и шуршать бумагой на глазах у всех, как делала всегда. Вместо этого опустилась рядом со своим саквояжем, отодвинула защёлку, достала аккуратный свёрток и протянула его Феликс. Пальцы её на секунду задержались на краешке бумаги. Ноготь слегка зацепил тесьму, и это маленькое неловкое движение выдало больше, чем любые слова. С тех пор как Феликс стал часто ездить, возвращаться поздно, пахнуть дорогой и холодом, она слишком волновалась о его благополучии.

 Шарф она увидела не сразу. В одной из лавок, куда она зашла под предлогом купить ленту или нитки, на полке лежали аккуратно сложенные вещи, и среди них он выделялся не броскостью, а достоинством: плотная шерсть, кашемир, спокойный рисунок, ровная работа, которая была видна в каждом стежке. Цена была названа.
Шарф она увидела не сразу. В одной из лавок, куда она зашла под предлогом купить ленту или нитки, на полке лежали аккуратно сложенные вещи, и среди них он выделялся не броскостью, а достоинством: плотная шерсть, кашемир, спокойный рисунок, ровная работа, которая была видна в каждом стежке. Цена была названа.

 Она вышла на улицу. В голове у неё не было ни жалоб, ни трагедии. Была только привычная строгая мысль: "Это слишком дорого для меня". И рядом с ней, неотступно, другая: "Он, наверно, мёрзнет".
Она вышла на улицу. В голове у неё не было ни жалоб, ни трагедии. Была только привычная строгая мысль: "Это слишком дорого для меня". И рядом с ней, неотступно, другая: "Он, наверно, мёрзнет".

 Сначала это были самые простые отказы, почти смешные, если произнести их вслух. Она перестала брать у булочника сдобу и конфеты, которые раньше позволяла себе, будто из упрямства перед собственной суровостью. К чаю она стала просить только сухари, и не те белые, хрусткие, а простые, сероватые, которые не пахли праздником, зато стоили меньше. Вечерами, когда часы уже били поздно, она зажигала не две лампы, как прежде, а одну, и ставила её так, чтобы света хватало лишь на стол и страницу книги; остальное оставалось в полутьме, где дышали тени и холод. Зимой она позволяла печи остывать раньше: топили ровно настолько, чтобы не замёрзнуть, но не настолько, чтобы стало уютно. Утром на воде в кувшине стояла тонкая льдинка, и она, не меняясь в лице, разбивала её кончиком ножа, словно это было обыкновенным делом, а не мелкой платой за будущую радость.
Сначала это были самые простые отказы, почти смешные, если произнести их вслух. Она перестала брать у булочника сдобу и конфеты, которые раньше позволяла себе, будто из упрямства перед собственной суровостью. К чаю она стала просить только сухари, и не те белые, хрусткие, а простые, сероватые, которые не пахли праздником, зато стоили меньше. Вечерами, когда часы уже били поздно, она зажигала не две лампы, как прежде, а одну, и ставила её так, чтобы света хватало лишь на стол и страницу книги; остальное оставалось в полутьме, где дышали тени и холод. Зимой она позволяла печи остывать раньше: топили ровно настолько, чтобы не замёрзнуть, но не настолько, чтобы стало уютно. Утром на воде в кувшине стояла тонкая льдинка, и она, не меняясь в лице, разбивала её кончиком ножа, словно это было обыкновенным делом, а не мелкой платой за будущую радость.

 Перчатки она носила одни и те же, пока кожа на пальцах не стала тонка и блестяща, как старый переплёт. Шов на подкладке расходился, и она, вместо того чтобы отнести к портнихе, перешивала его сама, при свете одной свечи, чтобы нитка не выбивалась из ряда и рука не дрогнула. Платье, требовавшее ремонта, она убрала в шкаф и ходила в другом, чуть более поношенном, но ещё приличном.
Перчатки она носила одни и те же, пока кожа на пальцах не стала тонка и блестяща, как старый переплёт. Шов на подкладке расходился, и она, вместо того чтобы отнести к портнихе, перешивала его сама, при свете одной свечи, чтобы нитка не выбивалась из ряда и рука не дрогнула. Платье, требовавшее ремонта, она убрала в шкаф и ходила в другом, чуть более поношенном, но ещё приличном.

 Деньги собирались не так, как собирают их люди, умеющие копить, а так, как собирают их те, кому это несвойственно: маленькими монетами, случайной сдачей, теми несколькими рублями, которые оставались после самых необходимых расходов. Она держала эти деньги отдельно, в узком кожаном кошельке, который лежал не в том ящике, где лежали её вещи, а в другом, куда рука не тянулась по привычке. Иногда она доставала его, пересчитывала, перекладывая монеты по одной на ладонь, и каждый раз будто бы убеждала себя: ещё немного. Ещё два, три дня. Ещё одна неделя без лишнего. И когда какой-нибудь мелкий расход внезапно грозил разрушить весь этот хрупкий порядок, она выбирала самое простое: обойтись без того, что можно пережить.
Деньги собирались не так, как собирают их люди, умеющие копить, а так, как собирают их те, кому это несвойственно: маленькими монетами, случайной сдачей, теми несколькими рублями, которые оставались после самых необходимых расходов. Она держала эти деньги отдельно, в узком кожаном кошельке, который лежал не в том ящике, где лежали её вещи, а в другом, куда рука не тянулась по привычке. Иногда она доставала его, пересчитывала, перекладывая монеты по одной на ладонь, и каждый раз будто бы убеждала себя: ещё немного. Ещё два, три дня. Ещё одна неделя без лишнего. И когда какой-нибудь мелкий расход внезапно грозил разрушить весь этот хрупкий порядок, она выбирала самое простое: обойтись без того, что можно пережить.

 Ей хотелось, чтобы никто не догадался, что эта покупка далась ей тяжело. Теперь этот порядок лежал у Феликса на ладонях, завёрнутый в бумагу и завязанный тесьмой. Татьяна, словно боясь, что скажет лишнее, заговорила о нём, а не о себе:
Ей хотелось, чтобы никто не догадался, что эта покупка далась ей тяжело. Теперь этот порядок лежал у Феликса на ладонях, завёрнутый в бумагу и завязанный тесьмой. Татьяна, словно боясь, что скажет лишнее, заговорила о нём, а не о себе:
-
Simpleton
12 января 2026 в 13:59:12

Показать предыдущие сообщения (16)- Вы больше всех..
- Я тоже.
- Мы могли бы встречать так каждое Рождество, - мечтательно протянула Татьяна.
- А Вы попробуйте с ним нежно, как с женщиной.
- Видите ли, князь, - сказал он, усмехнувшись уже откровеннее, чем позволял себе обычно, видно, заразившись свободой Феликса, - женщины, что мне попадались, приходили вовсе не за нежностью. Так что судьба, смею думать, избавила меня от необходимости в ней упражняться.
- О, ну раз Вы просите.
- Ничего без меня не можете!
- Господа, - заметила она с нарочитой участливостью, - если вы намерены превратить кухню в поле сражения, предупредите заранее. Я отсяду подальше.
- Надеюсь, Вы не перебьете все яйца понапрасну.
- Не тревожьтесь, князь, полагаю, вдвоём мы управимся... с этим.
- Не могу более ждать, - сказала она и тут же, как будто испугавшись собственной поспешности, добавила чуть тише, - Подарки. Сейчас.
- Вы теперь так часто ездите… Всё ищете способ снять проклятие. Я подумала… в дороге, должно быть, холодно. И… скучно. Пусть у Вас будет, чем согреться.
Вдвоём они действительно справились быстрее. Получилось не так хорошо, как хотелось, но зато в готовке чувствовалась любовь и неловкость мужских рук.
Гоголь-моголь разлили по бокалам скоро. Плеснули немного алкоголя и в воздухе аромат Рождества стал только гуще.
Татьяна вдруг наклонилась к Феликсу и поцеловала его. Не нежно, а с той жадностью, которую устала уже прятать. Руки вцепилсь в Юсупова и потащили за хрупкой барышней прямиком к ёлке. В жестах чувствовался приказ и восторг, над которым стоял детский неприкрытый каприз.
- Не могу более ждать, - выпалила Руневская, вызывая у Феликса довольный смешок. - Подарки. Сейчас.
Юсупов склонился к девушке ближе. Кончик носа убрал тонкую светлую прядь и коснулся нежной щеки, на которой пылал румянец.
- Вы такая нетерпеливая, - прошептал Феликс и в голосе чувствовалось урчание. - Мне нравится.
Татьяна наклонилась к своему соквояжу и Юсупов довольно оскалился. Тело его, переняв нетерпение девушки, перекатилось с пятки на носок. Взгляд так и цеплялся за каждое движение и всё пытался подглядеть подарок раньше, чем он окажется в руках.
Руневская протянула сверток торжественно, будто вручала ключ от главных ворот Москвы. Небольшой, совсем невесомый, но Феликс от чего-то смутился, будто получал подарок впервые.
- Это мне...?
Голос вышел взволнованным хрипом. Впервые на ладонях лежали не деньги, не ювелирные украшения - что-то иное, завернутое с душой и заботой, которое хотелось не порвать, а нежно вскрыть.
- Вы теперь так часто ездите… - произнесла Татьяна и в этой фразе неуловимо чувствовалась тоска. - Всё ищете способ снять проклятие.
Сердце у Феликса сжалось, будто кто-то схватил орган костлявой лапой. Юноша поморщился от собственного бессилия - ему бы хотелось променять поездки на уютные вечера вместе с Татьяной в этой квартире, но если он бросит, если позволит проклятию победить, то всё останется лишь неисполнившимися желаниями покойного.
- Я подумала… в дороге, должно быть, холодно. И… скучно. Пусть у Вас будет, чем согреться.
Пальцы дрогнули и упаковка под ними радостно зашуршала, готовая порваться в любой момент, чтобы продемонстрировать подарок.
- Нож, - попросил Феликс и голос его прозвучал хрипло.
Язык нетерпеливо скользнул по треснувшим губам, пока ладонь дрожала в воздухе, ожидая инструмент.
Он разрезал веревку неуклюжим движением, буквально распилил. Чудом не уронил подарок на пол, когда нить скользнула беззвучно на пол.
В упаковке лежал обычный шарф. Такие продавались в Петербурге на каждом углу по разной цене. Будь это Николай или Володя, то Феликс непременно потребовал основной подарок, а не этот сувенир.
С Татьяной всё было иначе. Ткань прижалась к лицу и Юсупов вдруг почувствовал, что это Руневская мягко коснулась его щеки. В материале запутался запах её духов и стоило опустить веки, как нежный образ тут же возникал перед глазами.
- Благодарю, - выдохнул Феликс. - Это самый лучший подарок.
Он не слукавил ни на миг - шарф оказался ценнее золотых запанок или очередной пачки денег, что бездумно легла на сберегательную книгу.
- У меня тоже есть кое-что для Вас.
Юсупов наклонился к ёлке и достал от туда сразу две коробочки. Одна была большой, из чёрного материала с золотыми узорами, будто кто-то вырисовывал их хной. Вместо банта - сургучная печать с инициалами Е.Я. - как напоминание, кто Татьяна есть на самом деле.
Феликс не знал, что Руневская лишилась перчаток - решил одарить её очередной роскошью, которой она была достойна, и очень удачно попал в цель.
Муфта лежала на самом дне, переливаясь мехом. Пушистая, она всё ещё пахла животным, с которого добыли пушнину.
- В Петербурге холодно зимой. Хочу, чтобы Вы выглядели роскошно даже в морозы.
В небольшой коробке всё было куда проще, но так же изящно.
Портсигар делали на заказ. Нежно розовый, украшенный цветами роз, Феликсу он напомнил их работу в саду, когда вместе с Руневской высаживали тюльпаны.
- Мне нравится, как Вы выдыхаете дым, - признался он и голос звучал не просто возбужденно, а почти благоговейно. - Хочу, чтобы Вы делали это чаще и исключительно всегда со своим. Я буду пополнять Ваши запасы.
Феликс осторожно нажал на кнопку и крышка откинулась, демонстрируя Татьяне несколько рядов папирос.
- Сегодня вишня. Желаете попробовать?