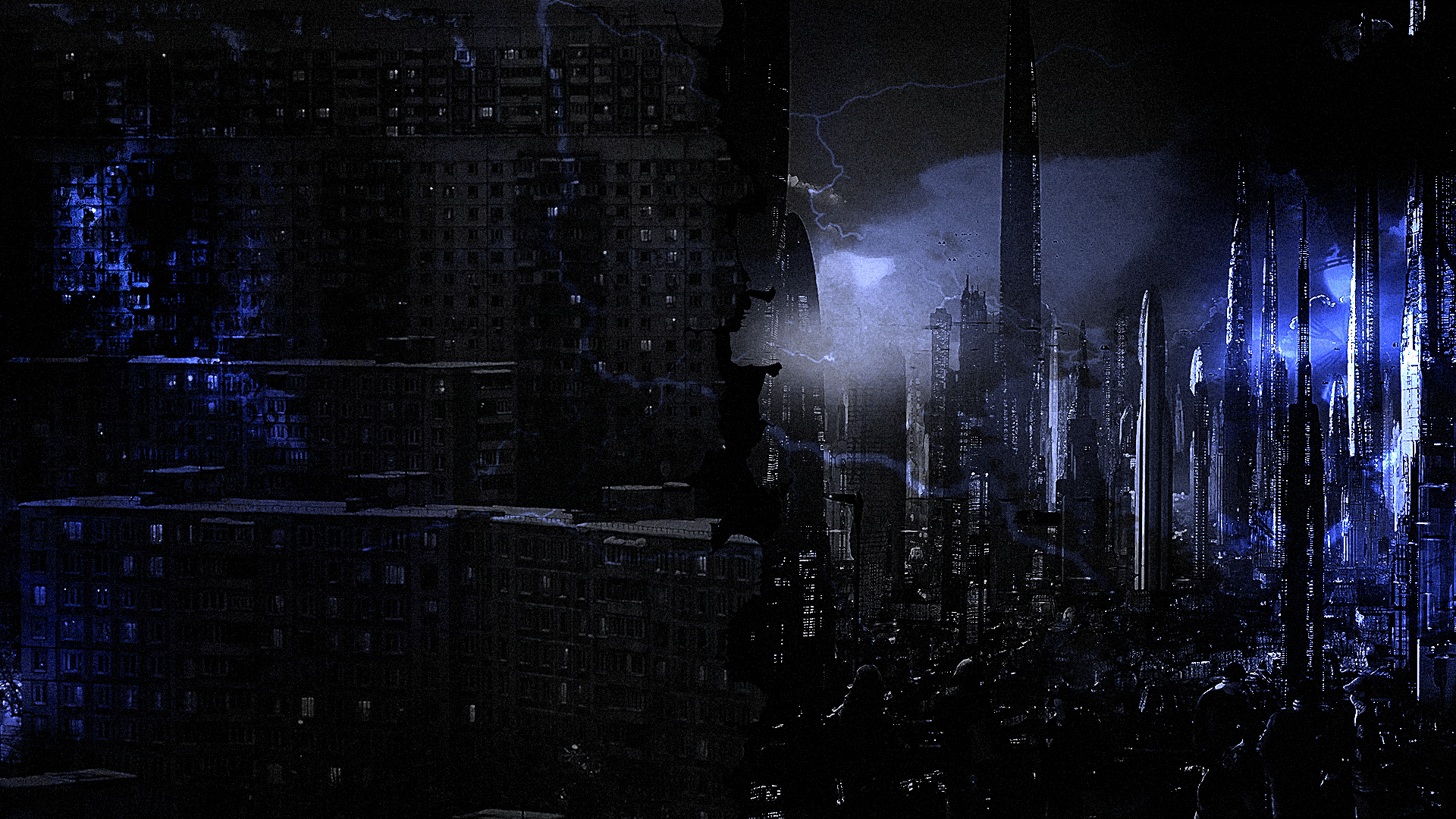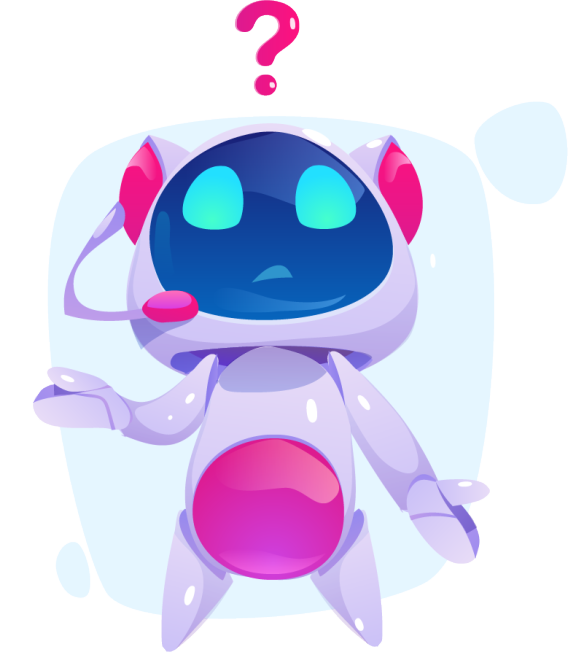- Вы больше всех..

 Татьяна прищурилась, глядя на него пристально и оценивающе. Строгость, которую она пыталась изобразить, выходила у неё не столько суровой, сколько кокетливо-игривой, будто маска всё время норовила соскользнуть. Тонкие, прохладные пальцы коснулись запястья Феликса, и кожа его мгновенно откликнулась.
Татьяна прищурилась, глядя на него пристально и оценивающе. Строгость, которую она пыталась изобразить, выходила у неё не столько суровой, сколько кокетливо-игривой, будто маска всё время норовила соскользнуть. Тонкие, прохладные пальцы коснулись запястья Феликса, и кожа его мгновенно откликнулась.
- Я тоже.
- Мы могли бы встречать так каждое Рождество, - мечтательно протянула Татьяна.

 И поняла, что ляпнула лишнее. Это слишком веяло надеждой, что он и правда не разлюбит, не бросит. А разве он мог? "Хотя если кто-то и может - то Феликс".
И поняла, что ляпнула лишнее. Это слишком веяло надеждой, что он и правда не разлюбит, не бросит. А разве он мог? "Хотя если кто-то и может - то Феликс".

 Феликс изящно прикрыл рот ладонью, позволив себе тонкий, почти невесомый смешок. Татьяна теперь наблюдала вовсе не за жалкими потугами Дашкова, а за тем, как смеялся Феликс.
Феликс изящно прикрыл рот ладонью, позволив себе тонкий, почти невесомый смешок. Татьяна теперь наблюдала вовсе не за жалкими потугами Дашкова, а за тем, как смеялся Феликс.
- А Вы попробуйте с ним нежно, как с женщиной.

 Дмитрий поднял на него взгляд - ехидный, сдержанно-насмешливый, и с явным усилием подавил смешок.
Дмитрий поднял на него взгляд - ехидный, сдержанно-насмешливый, и с явным усилием подавил смешок.
- Видите ли, князь, - сказал он, усмехнувшись уже откровеннее, чем позволял себе обычно, видно, заразившись свободой Феликса, - женщины, что мне попадались, приходили вовсе не за нежностью. Так что судьба, смею думать, избавила меня от необходимости в ней упражняться.

 Татьяна закатила глаза и фыркнула, с трудом удержавшись от вполне конкретного и недвусмысленного желания пнуть Дашкова куда-нибудь в область коленной чашечки.
Татьяна закатила глаза и фыркнула, с трудом удержавшись от вполне конкретного и недвусмысленного желания пнуть Дашкова куда-нибудь в область коленной чашечки.

 Феликс сделал нарочито театральный вдох - усталый, исполненный превосходства и ленивого высокомерия:
Феликс сделал нарочито театральный вдох - усталый, исполненный превосходства и ленивого высокомерия:
- О, ну раз Вы просите.

 И, уже тише, почти себе под нос, добавил:
И, уже тише, почти себе под нос, добавил:
- Ничего без меня не можете!



 В этих словах отчётливо проступал его подлинный характер. Татьяна выгнула бровь, с любопытством наблюдая за этим зрелищем. Дмитрий не ответил. Более того, он вовсе не обиделся, напротив, в нём читалось странное, почти довольное спокойствие, будто его искренне порадовало, что Феликс не стал притворяться и изображать кого-то иного.
В этих словах отчётливо проступал его подлинный характер. Татьяна выгнула бровь, с любопытством наблюдая за этим зрелищем. Дмитрий не ответил. Более того, он вовсе не обиделся, напротив, в нём читалось странное, почти довольное спокойствие, будто его искренне порадовало, что Феликс не стал притворяться и изображать кого-то иного.

 Татьяна, наблюдая за ними, устроилась на стуле, взяла яблоко и, с ленивым наслаждением откусывая от него, принялась издеваться уже над обоими:
Татьяна, наблюдая за ними, устроилась на стуле, взяла яблоко и, с ленивым наслаждением откусывая от него, принялась издеваться уже над обоими:
- Господа, - заметила она с нарочитой участливостью, - если вы намерены превратить кухню в поле сражения, предупредите заранее. Я отсяду подальше.

 Феликс, словно желая доказать свою полезность, взял на себя заботу зажечь плиту. Он прекрасно помнил, как Дмитрий относился к открытому огню, и, судя по короткому взгляду, брошенному на него Дмитрием, тот это заметил. В его глазах мелькнула тихая, неловкая благодарность - почти нежная, если бы он позволил себе признать это чувство.
Феликс, словно желая доказать свою полезность, взял на себя заботу зажечь плиту. Он прекрасно помнил, как Дмитрий относился к открытому огню, и, судя по короткому взгляду, брошенному на него Дмитрием, тот это заметил. В его глазах мелькнула тихая, неловкая благодарность - почти нежная, если бы он позволил себе признать это чувство.
- Надеюсь, Вы не перебьете все яйца понапрасну.
- Не тревожьтесь, князь, полагаю, вдвоём мы управимся... с этим.

 Они вдвоём принялись за гоголь-моголь. Татьяна наблюдала за их стараниями с откровенным весельем, не упуская случая отпустить очередную колкость, однако, к удивлению всех присутствующих, вдвоём у них дело шло куда лучше, чем можно было ожидать.
Они вдвоём принялись за гоголь-моголь. Татьяна наблюдала за их стараниями с откровенным весельем, не упуская случая отпустить очередную колкость, однако, к удивлению всех присутствующих, вдвоём у них дело шло куда лучше, чем можно было ожидать.

 Когда всё было разлито по бокалам, приправлено спиртным и доведено до относительного совершенства, они направились к ёлке. Татьяна вдруг поцеловала Феликса, крепко вцепилась в его руку и почти потащила назад.
Когда всё было разлито по бокалам, приправлено спиртным и доведено до относительного совершенства, они направились к ёлке. Татьяна вдруг поцеловала Феликса, крепко вцепилась в его руку и почти потащила назад.

 Когда гоголь-моголь был разлит по бокалам и в него, по всем правилам зимнего утешения, добавили спиртного, они перешли к ёлке. В комнате пахло хвоей, тёплым молоком и чем-то ещё, едва уловимым. Татьяна, до сих пор державшаяся так, словно весь этот праздник был порученным ей делом, вдруг наклонилась и поцеловала Феликса быстро. Потом вцепилась в его руку и потянула к ёлке с тем нетерпением, в котором у неё всегда было больше власти, чем детской радости.
Когда гоголь-моголь был разлит по бокалам и в него, по всем правилам зимнего утешения, добавили спиртного, они перешли к ёлке. В комнате пахло хвоей, тёплым молоком и чем-то ещё, едва уловимым. Татьяна, до сих пор державшаяся так, словно весь этот праздник был порученным ей делом, вдруг наклонилась и поцеловала Феликса быстро. Потом вцепилась в его руку и потянула к ёлке с тем нетерпением, в котором у неё всегда было больше власти, чем детской радости.
- Не могу более ждать, - сказала она и тут же, как будто испугавшись собственной поспешности, добавила чуть тише, - Подарки. Сейчас.

 Она не стала рвать коробки и шуршать бумагой на глазах у всех, как делала всегда. Вместо этого опустилась рядом со своим саквояжем, отодвинула защёлку, достала аккуратный свёрток и протянула его Феликс. Пальцы её на секунду задержались на краешке бумаги. Ноготь слегка зацепил тесьму, и это маленькое неловкое движение выдало больше, чем любые слова. С тех пор как Феликс стал часто ездить, возвращаться поздно, пахнуть дорогой и холодом, она слишком волновалась о его благополучии.
Она не стала рвать коробки и шуршать бумагой на глазах у всех, как делала всегда. Вместо этого опустилась рядом со своим саквояжем, отодвинула защёлку, достала аккуратный свёрток и протянула его Феликс. Пальцы её на секунду задержались на краешке бумаги. Ноготь слегка зацепил тесьму, и это маленькое неловкое движение выдало больше, чем любые слова. С тех пор как Феликс стал часто ездить, возвращаться поздно, пахнуть дорогой и холодом, она слишком волновалась о его благополучии.

 Шарф она увидела не сразу. В одной из лавок, куда она зашла под предлогом купить ленту или нитки, на полке лежали аккуратно сложенные вещи, и среди них он выделялся не броскостью, а достоинством: плотная шерсть, кашемир, спокойный рисунок, ровная работа, которая была видна в каждом стежке. Цена была названа.
Шарф она увидела не сразу. В одной из лавок, куда она зашла под предлогом купить ленту или нитки, на полке лежали аккуратно сложенные вещи, и среди них он выделялся не броскостью, а достоинством: плотная шерсть, кашемир, спокойный рисунок, ровная работа, которая была видна в каждом стежке. Цена была названа.

 Она вышла на улицу. В голове у неё не было ни жалоб, ни трагедии. Была только привычная строгая мысль: "Это слишком дорого для меня". И рядом с ней, неотступно, другая: "Он, наверно, мёрзнет".
Она вышла на улицу. В голове у неё не было ни жалоб, ни трагедии. Была только привычная строгая мысль: "Это слишком дорого для меня". И рядом с ней, неотступно, другая: "Он, наверно, мёрзнет".

 Сначала это были самые простые отказы, почти смешные, если произнести их вслух. Она перестала брать у булочника сдобу и конфеты, которые раньше позволяла себе, будто из упрямства перед собственной суровостью. К чаю она стала просить только сухари, и не те белые, хрусткие, а простые, сероватые, которые не пахли праздником, зато стоили меньше. Вечерами, когда часы уже били поздно, она зажигала не две лампы, как прежде, а одну, и ставила её так, чтобы света хватало лишь на стол и страницу книги; остальное оставалось в полутьме, где дышали тени и холод. Зимой она позволяла печи остывать раньше: топили ровно настолько, чтобы не замёрзнуть, но не настолько, чтобы стало уютно. Утром на воде в кувшине стояла тонкая льдинка, и она, не меняясь в лице, разбивала её кончиком ножа, словно это было обыкновенным делом, а не мелкой платой за будущую радость.
Сначала это были самые простые отказы, почти смешные, если произнести их вслух. Она перестала брать у булочника сдобу и конфеты, которые раньше позволяла себе, будто из упрямства перед собственной суровостью. К чаю она стала просить только сухари, и не те белые, хрусткие, а простые, сероватые, которые не пахли праздником, зато стоили меньше. Вечерами, когда часы уже били поздно, она зажигала не две лампы, как прежде, а одну, и ставила её так, чтобы света хватало лишь на стол и страницу книги; остальное оставалось в полутьме, где дышали тени и холод. Зимой она позволяла печи остывать раньше: топили ровно настолько, чтобы не замёрзнуть, но не настолько, чтобы стало уютно. Утром на воде в кувшине стояла тонкая льдинка, и она, не меняясь в лице, разбивала её кончиком ножа, словно это было обыкновенным делом, а не мелкой платой за будущую радость.

 Перчатки она носила одни и те же, пока кожа на пальцах не стала тонка и блестяща, как старый переплёт. Шов на подкладке расходился, и она, вместо того чтобы отнести к портнихе, перешивала его сама, при свете одной свечи, чтобы нитка не выбивалась из ряда и рука не дрогнула. Платье, требовавшее ремонта, она убрала в шкаф и ходила в другом, чуть более поношенном, но ещё приличном.
Перчатки она носила одни и те же, пока кожа на пальцах не стала тонка и блестяща, как старый переплёт. Шов на подкладке расходился, и она, вместо того чтобы отнести к портнихе, перешивала его сама, при свете одной свечи, чтобы нитка не выбивалась из ряда и рука не дрогнула. Платье, требовавшее ремонта, она убрала в шкаф и ходила в другом, чуть более поношенном, но ещё приличном.

 Деньги собирались не так, как собирают их люди, умеющие копить, а так, как собирают их те, кому это несвойственно: маленькими монетами, случайной сдачей, теми несколькими рублями, которые оставались после самых необходимых расходов. Она держала эти деньги отдельно, в узком кожаном кошельке, который лежал не в том ящике, где лежали её вещи, а в другом, куда рука не тянулась по привычке. Иногда она доставала его, пересчитывала, перекладывая монеты по одной на ладонь, и каждый раз будто бы убеждала себя: ещё немного. Ещё два, три дня. Ещё одна неделя без лишнего. И когда какой-нибудь мелкий расход внезапно грозил разрушить весь этот хрупкий порядок, она выбирала самое простое: обойтись без того, что можно пережить.
Деньги собирались не так, как собирают их люди, умеющие копить, а так, как собирают их те, кому это несвойственно: маленькими монетами, случайной сдачей, теми несколькими рублями, которые оставались после самых необходимых расходов. Она держала эти деньги отдельно, в узком кожаном кошельке, который лежал не в том ящике, где лежали её вещи, а в другом, куда рука не тянулась по привычке. Иногда она доставала его, пересчитывала, перекладывая монеты по одной на ладонь, и каждый раз будто бы убеждала себя: ещё немного. Ещё два, три дня. Ещё одна неделя без лишнего. И когда какой-нибудь мелкий расход внезапно грозил разрушить весь этот хрупкий порядок, она выбирала самое простое: обойтись без того, что можно пережить.

 Ей хотелось, чтобы никто не догадался, что эта покупка далась ей тяжело. Теперь этот порядок лежал у Феликса на ладонях, завёрнутый в бумагу и завязанный тесьмой. Татьяна, словно боясь, что скажет лишнее, заговорила о нём, а не о себе:
Ей хотелось, чтобы никто не догадался, что эта покупка далась ей тяжело. Теперь этот порядок лежал у Феликса на ладонях, завёрнутый в бумагу и завязанный тесьмой. Татьяна, словно боясь, что скажет лишнее, заговорила о нём, а не о себе:
- Вы теперь так часто ездите… Всё ищете способ снять проклятие. Я подумала… в дороге, должно быть, холодно. И… скучно. Пусть у Вас будет, чем согреться.